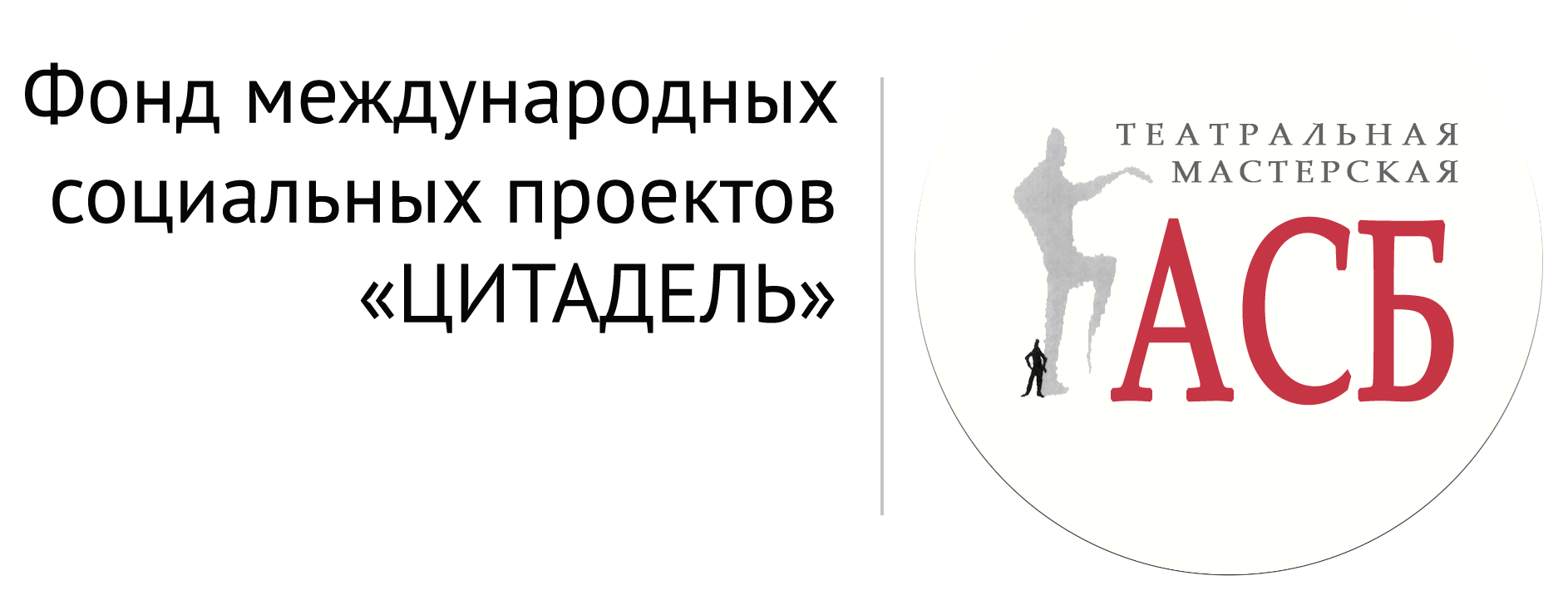«Когда люди делают то, о чем мечтают...»
Петербургский Театральный Журнал, февраль 2002 г.
Мария Смирнова-Несвицкая
«Я... Она... Не Я и Я...»
Пьесу Клима читает Александр Лыков.
Режиссер Алексей Янковский
«Tombe la neige....» — слишком громко поет ностальгически близкий голос Адамо. «Добрый день я... Я хотел сказать меня зовут но... — слишком быстро говорит ностальгически знакомый актер, выходя на площадку. — В этой пьесе у моего героя нет имени вернее... Его собственно зовут я то есть...»
Он говорит так быстро, что я не сразу понимаю — что он говорит? Он говорит быстро и горячо, запинаясь, он что-то говорит мне, я должна понять, что хочет сказать этот странный носатый человек, он говорит так, что понятно — это важно, важно, очень важно, он что-то знает, что необходимо знать и мне. А может, не надо? Ну зачем мне нужны эти чужие эмоции, мне своих хватает... Так ли уж нужно включаться? Посижу тихо, пусть говорит сам по себе, а я тут побуду сама по себе... Что это он заикается? Надо же, какое темпераментное начало...
Однако через первые пять-семь минут спектакля мой внутренний голос заткнется. Он не найдет больше паузы для своих скептических реплик, он не найдет больше повода для спора и возражений. Он будет только иногда коротко вскрикивать в поддержку актера: «Да! Это так! И это правда! И это...» А потом вдруг мой внутренний голос растеряется и перепутает себя и голос актера. И я буду думать: это я думаю? Или не я? Или это она, моя душа? Потому что такие важные вещи, которые звучат в спектакле, человек должен говорить себе сам. Возможно, голосом Лыкова... Возможно, словами Клима...
Спектакль завершится фразой, как будто не имеющей непосредственного отношения к происходящему на площадке:
... Читая «ДВА ОБРАЗА ВЕРЫ» Мартина Бубера, думаю о театре, как возможно когда-то думал о нем единственно не охваченный безумием мужчина в клинике для душевнобольных. Его имя значилось в больничной книге как имя некоего мсье Антонена Арто, актера, утверждавшего, что «театр — чума», когда весь мир, западный мир, был охвачен чумой второй мировой... Москва. 2000. Клим
Это авторский «голос за кадром», реплика «в сторону, а parte». Однако фраза эта очень важна. Она - и благодарность, поклон учителям, признание «генетической» культурной связи, и одновременно пропуск в авторскую лабораторию. Названы два имени, за каждым из которых возникает целый космос вдохновенных идей, представляющих для сегодняшнего дня не просто интеллектуальный интерес, но самый насущный, необходимый для продолжения жизни — и творчества. Эти идеи незримо пронизывают и насыщают пространство спектакля, его воздух, перемешивая инстинкты с логикой, прошлое с настоящим, слово с голосом, мгновения отдельной жизни с вечностью мироздания. Думаю даже, что успех спектакля во многом зависит от энергии этих идей.
Трагическая фигура Антонена Арто с его «тотальным театром», «театром жестокости» и поисками «пространственного языка» в отношениях «театр-жизнь-слово» оказала — уже после его смерти — очень сильное влияние на развитие театрального процесса двадцатого столетия. Попытки Арто придать театру то сакральное значение, которое утратила европейская христианская традиция, сделать театр тем самым местом, которое бы служило очищению и перерождению человеческой души, обозначили вектор движения для многих мыслящих театральных людей. Гениальное наследие Арто, глобальный масштаб его театральных идей наряду с прожигающим все темпераментом и мифической бытовой неприспособленностью и неудачливостью будут поражать воображение и заряжать еще не одно поколение теоретиков и практиков театра. Тем более что силы, которые Арто привлекал к решению поставленных вопросов, включали в себя каббалистические учения, магию, восточные практики, герметическую философию со старшими арканами Таро, а также египетскую Книгу Мертвых.
Спектакль, сделанный по пьесе Клима, мистическим образом несет в себе тайну соприкосновения с духом Антонена Арто, и проанализировать это явление не представляется возможным в полной мере.
Существует связь явная, ее можно увидеть в следовании творческим принципам, и существует глубинная, ирреальная связь, помогающая и позволяющая эти принципы осуществить ВЖИВУЮ. Спектакль по пьесе Клима - это ЖИВОЙ пример ЖИВОГО театра. Описывая этот спектакль, я с удивлением понимаю, что могу использовать готовые формулы Арто, предъявляемые им в качестве требований к Театру. Это независимость от сюжета, это язык, где «произносимым словам придана та же значимость, какую они имеют в сновидениях», это попытка «создать реальную метафизику», «призыв к необычным идеям... которые касаются понятий Творения, Становления, Хаоса и относятся к космическому порядку, дают первое представление о той области, от которой театр совершенно отвык», и многие другие, явленные нам достоинствами этого спектакля.
Безусловно, недостатки там также есть. Мне представляется, к ним относится костюм актера, решенный в духе Магрита 1930-х годов или Мерета Опенгейма с его знаменитым чайным меховым прибором. Смысл, на который претендует костюм из «кирпичей», слишком поверхностен и не достигает планки, соответствующей работе драматурга, режиссера и актера. Вместо метафоры, «скрытой магии», образуется полупустой гэг, не слишком удавшийся умозрительный трюк. Идея «несовместимости материала и формы», идея «прозрачности» актера на фоне кирпичной стены работает отчасти вхолостую, постановочно не поддержана. В который раз можно посочувствовать театру из-за отсутствия художника в проекте по вполне понятным финансовым причинам.
Если для создания сценической формы, структуры, художественного языка спектакля авторы призвали дух Арто и он явно им очень помог, то к решению семантической задачи была весьма плодотворно привлечена еще одна великая тень — философа Мартина Бубера, принадлежавшего к направлению религиозного экзистенциализма, к которому также относились Габриэль Марсель, Карл Ясперс, Николай Бердяев, Лев Шестов. Смыслом существования Бубер считал непрекращающийся Диалог человека с Господом. Мартин Бубер, в ряду других своих трудов, перевел на немецкий язык Библию. Лев Шестов оценивал этот труд Бубера как подвиг, решение почти невыполнимой задачи: «дерзнуть воссоздать на нашем теперешнем языке искания и нахождения тех отдаленных времен, когда не люди творили истину, а истина открывалась людям».
Авторы спектакля — драматург, режиссер и актер — имеют смелость и дерзновение «воссоздать на нашем теперешнем языке искания» — и истина послушно открывается им. «Наш теперешний язык» — это формы нашего сегодняшнего мышления и общения, это определенные временем, зафиксированные драматургом и услышанные режиссером и актером косноязычие, дерганый ритм, заикающаяся, спотыкающаяся речь, сквозь которые в спектакле проступает удивительно ясная и простая истина.
Истина — опять о том же. Эта истина стара как мир и нова для каждого поколения. Истина о том, что человек не выживает без Бога на этой земле. О том, что человек, много раз похоронив Бога за всю историю своего существования, опять, снова и снова, беспомощно или грозно, агрессивно или сиротливо, как брошенный ребенок, ищет Его в любой травинке, в земной любви, женщина — в мужчине, мужчина — в женщине, в зеркале, в себе, в книге, в небе, в солнечном луче, падающем налицо...
Каждый век требует своего языка. Мало того, что требует — он только его и понимает. Постсоветскую культуру до сих пор пугает пафос «правильности». Долгие годы нам казалось, что истина, изреченная безупречным литературным языком, подозрительна своим скрытым родством с языком официальным, а значит, лживым. Подсознательно мы более сочувствуем и доверяем человеку, мучительно подыскивающему слова, спотыкающемуся о грамматические конструкции, пробивающему дорогу своей мысли с видимым и ощущаемым трудом. В спектакле это не просто точно найденный «ход» режиссера или безупречная органика актера, это разыскание и обнаружение сценического языка, адекватного ценностям времени. Если углубиться в анализ языка пьесы, обнаружится некая лингвистическая структура, напоминающая конструкции Платонова, чей язык стал абсолютным выражением, документом своей страшной эпохи. Здесь, как и у Платонова, возникает ощущение дополнительной реальности, другого по плотности воздуха, как в высокогорье — меняется режим дыхания, а потому и жизни, и мышления. Однако здесь пространство между словами прорастает надеждой и даже вызывает в памяти забытое слово «катарсис». Здесь театр — это попытка Веры, условно говоря, это заповеди, пересказанные так, чтобы о них мог задуматься любой человек в 2002 году. Даже если его душа прочно сидит на цепи атеистического сознания.
«Танцуют все!» — провозглашает актер, прыгая под бодрую музычку, — и становится понятно, что «танцуют» действительно все — все так или иначе живут, и для всех рано или поздно встают вопросы, заданные в спектакле. Оригинальность и энергия драматургического материала находят сценическое воплощение с помощью удивительной личности — актера Александра Лыкова. Впрочем, создание пьесы и было спровоцировано самим существованием такого актера, ибо пьеса написана на него и для него. Суперпопулярное лицо, имидж и экранное имя покорителя дамских сердец, соответствующие имиджу манеры — все эти атрибуты успешной кинозвезды оказываются сброшены, как устаревшая одежда, он с легкостью перешагивает через них и — обретает совершенно новое качество. В его лице театральная публика получает уникального актера, своеобразного, обладающего не только талантом, темпераментом, невероятным обаянием и техникой, но — внутренней свободой, способностью экспериментировать и главное — мыслить. Отказ укладываться в прокрустово ложе мыльного сериала уже выводит его из общего строя в разряд одиночек, сообщая нам еще одну тайну характера личности — присутствие смелости и интеллекта. Соединение всех этих качеств «под одной крышей» — почти невероятный случай.
Еще один существенный мотив спектакля: на сцене проходит часть жизни актера — играя спектакль, сам актер никуда не исчезает, он как личность присутствует и существует в любой момент жизни персонажа. Там, где актер, там и вопрос: я это или не я? Сколько существует актерская профессия, столько же будут мучить «человека играющего» взаимоотношения между персонажем и актером, между актером и его «эго», между человеком и его лицами, между душой и ее видимой оболочкой. Этим вопросом в разные времена задавались чрезвычайно талантливые и умные люди — и здесь опять невозможно избежать мысленного дискурса, краткой переклички имен — от Михаила Чехова и Брехта до Гротовского и Анатолия Васильева. И опять в спектакле возникает ощущение, что энергии этих исканий помогают актеру на площадке, помогают дышать, помогают жить.
Спектакль необычный, «нетеатральный», и в определенном смысле к нему не применимы традиционные театроведческие оценки.
И поскольку возникла возможность поговорить с постановщиком спектакля Алексеем Янковским, я этой возможностью пользуюсь.
Алексей Янковский. А у нас не спектакль. Мы не конкурируем. Мы делаем то, о чем мечтаем. Заново надо учить людей делать то, о чем они мечтают. А когда люди делают то, о чем они мечтают, то и получается... ну…
У Леши в жизни есть такая манера — говорить междометие «ну...» с такой интонацией, что, мол, «ты-то знаешь, о чем я говорю». Эта интонация очень мобилизует собеседника, возникает эмоциональный импульс — хочется ответить, успокоить, мол, да, да, знаю, понимаю, пытаюсь понять. Леша может этими своими «ну» выразить очень много. Он иной раз даже и не пытается вслух сформулировать словами свою мысль — он просто ее думает и потом произносит слово «ну». И с этим «ну» его мысль как-то невербально сообщается собеседнику.
А.Я. Ну да. Я в институте, когда преподавал, Галендеев (педагог по речи) мне говорит: «Леша, что вы все "ну" да "ну"?» Но, согласись, очень многое передается не при помощи слов. Бывает же — просто выпьешь с человеком кофе и уже все про него знаешь...
Мария Смирнова-Несвицкая. Да, только эта манера очень заразна. Через полчаса тоже начинаешь говорить «ну». Ну. Расскажи, ну, о пьесе.
А.Я. Клим писал по моей просьбе для Саши. Именно для Саши. А с Климом мы давно знакомы, ты же знаешь. Только очень разные пути к театру. Клим, он же физик.
М.С.-Н. Он физик?
А.Я. Да, он по образованию физик. А потом пошел в театр. Он от физики идет к театру, ну, от науки идет к театру. Он приехал со словами: «Я хочу поставить нормальный спектакль для домохозяек». А я наоборот.
М.С.-Н. Что значит наоборот?
А.Я. Ну, я от театра иду к физике. То есть к технологии. Я же с театра и начинал. У меня первое образование актерское. Только я очень быстро понял, что актерское ремесло — это слишком подневольно для меня. И что я развалю любое хорошее дело. Так меня выталкивало на свой путь. Я тогда ушел из театра. Вообще ушел. Ну... Понимаешь, как уходят... проработал год в одной фирме, имел кучу денег, и в какой то момент я подумал, что пройдет три дня и я этих людей просто поубиваю. И я вернулся в театр. Но возвратиться можно только в другом качестве. Ну. Это закон. И мне пришлось начать все сначала. Со школьной скамьи. Я снова поступил в институт, снова стал студентом. Разными путями выводит в профессию. И теперь назад уже некуда идти, назад - значит потерять жизнь. Потому что ухода театр не прощает. Профессионалом становишься тогда, когда понимаешь, что ты уже столько туда вложил... Ну. Путь театра — это, конечно, особый путь. Но это глупость, когда пытаются приносить какие-то техники или готовую философию в театр. Мне говорят: «Я буддизм принесу в театр», это ерунда, никогда. «Просветление будет такое, как в буддизме». Если ты буддист, занимайся буддизмом. В театре свои правила. Многие из них просто забыты.
Я хочу открыть забытое. Что такое, к примеру, «говорить полным тоном»? Что они подразумевали под этим? Я читаю в мемуарах — знаменитая трагическая актриса Стрепетова готовит молодого актера для показа: «Завтра ты придешь в театр. Скажешь суфлеру "Не подавать" и будешь говорить полным тоном». Он так и сделал. На следующий день его приняли в театр. С большим гонораром. Вот как он говорил «полным тоном»? Или, к примеру, в Александринке работал такой актер знаменитый, Мамонт-Дальский. Он играл либо гениально, либо никак. И однажды были гастроли в Харькове, продали дорогие билеты. На Мамонта-Дальского. И весь Харьков пошел смотреть. А он как раз был не в духе. И играл «никак». Так «никак» минут пятнадцать-двадцать проходит, наконец в зале кто-то не выдерживает и возмущенно кричит: «Когда же будет играть Мамонт-Дальский?!» Тут Мамонт-Дальский останавливается и говорит: «Сейчас!» И начинает с этой секунды играть уже гениально. Вот как?
И Станиславский только сейчас приходит в театр. Просто сам Станиславский был верующим человеком. И все термины и понятия у него — в вере. А прочитано это было в век невероятного атеизма. И соответственно извращено до неузнаваемости. До противоположности, как и многое другое. Станиславский был модой. А теперь становится реальностью. «Школа переживания»... Школа переживания хороша в замкнутом объеме. А если объем не замкнут, то, переживая, ты получаешь в жизни ту же историю.
М.С.-Н. Кармическая привязка возникает? Актер подключается и на себя переводит.
А.Я. Да, и, собственно, то, чем я занимаюсь, — я занимаюсь техникой безопасности актера. Потому что вот в нашей истории мы пытаемся создать такой сильный образ, что если возникает он «как я», а не как «Актер», то он моментально получит по голове.
М.С.-Н. Да уж, примеры известны.
А.Я. Потому что актерство — это магический акт. В чем отличие мистики от магии? Мистика — это когда тебе туману напускают. А магия — это ясность. Это знания. Если ты сделал то-то, то дальше будет вот это. Теперь надо сделать вот это, и тогда будет то-то. Ты владеешь частями, составляешь из них. А если ты не знаешь, что получится от твоих действий, то это очень опасно. Я смотрю, когда играют актеры, скажем, смерть, умирать уходят в зал, я крещусь, потому что они не понимают, что они делают. И что за все придется ответить. И что режиссер — это очень нравственная профессия. Ну... Ты должен понимать, что ты делаешь. Иначе ты губишь людей. К тебе это не имеет отношения — а актер это играет. И ты должен понять, что это имеет силу ритуала.
М.С.-Н. Невежество приравнивается к преступлению. И в социальном театре, впрочем.
А.Я. А сейчас такое время, что социальный театр отпал. Ушел эзопов язык.
М.С.-Н. Парадокс, но это действительно оказалось большой потерей.
А.Я. Да. И что очень важно для социального театра — нет государственного заказа. Я смотрю спектакли в государственных театрах и понимаю, что у руководителей театров, у директоров государственных театров нет ответственности за качество. Нет заказа. С директоров театров никто не спрашивает качества. У них нет страха, не говоря уж о трепете. Они делают или пытаются делать коммерцию, спектакли, где декорация, к примеру, стоит два миллиона, а актер получает 800 рублей, ну пусть тысячу. И мне стыдно. Я смотрю на сцену и вижу — вот этот получает 600 рублей (если у него нет возможности сниматься), и мне стыдно. У них нет жизни, отняли возможность просто существовать. Или халтурь где-то. То есть театр снова стал любительским. Просто заниматься театром, в чистом виде, никто не может. Театр приходится совмещать с каким-то еще заработком. И в театре остались те, кто уже не может без него. Либо самые талантливые, либо наоборот. Золотой середины сейчас нет. Как и в стране, впрочем. Как в стране, так и в театре отсутствует воспроизводство. Нематериальных ценностей. Потому что театр — это зеркало, он отражает всю структуру. Ну, не знаю, может, и нужно продать все. Все продать, чтобы ничего не осталось. Чтобы стало пусто, пусто, пусто. Все должно умереть. Чтобы опять возникла необходимость, потребность в настоящем театре.
И опять — сейчас в театре просто опасно работать. Потому что техника актерской игры на грани катастрофы. Можно сказать, утеряно ремесло. Актерство — это небезопасная профессия, если не владеешь ею. Если тебе нечем наполниться, не знаешь, как восстанавливаться, за счет чего добирать душевных сил. И физических. Начинают тянуть из зрителей. Театр сейчас как Чечня для актера. Он выжигает все внутри, выхолащивает. Они начинают болеть. Умирать. Я хочу другой театр. Реабилитация нужна для актеров. Я пытаюсь создать некий реабилитационный центр. Чтобы актеры занимались тем, что дает им силы. Не убивает, а наоборот.
Хорошо, когда ты понимаешь, что твоя задача — не растратить силы, а их сохранить, то есть быть живым.
А в Питере особенная энергетическая ситуация. Здесь особенно много вакуума. И здесь больше страху, чем в Москве. И потому так много агрессии. Что такое агрессия? Это попытки защитить остатки духа. И сейчас совсем не стало мест, где ты можешь добыть живую энергию. В театр нельзя идти, потому что спектакли тебя просто выжимают. Им самим этого не хватает, этой энергии. После таких спектаклей начинаешь болеть. Это дорогие спектакли. После них надо пойти выпить. Или хорошо поесть.
Жванецкий очень здорово сказал. Что сейчас траханье от любви отличить нельзя. Процесс вроде похож. Только любовь же — это мучения. А я прихожу в театр, говорит Жванецкий, и вижу траханье. И не вижу этих мучений. Любимый мною когда-то артист Хазанов, говорит Жванецкий, сказал что-то и держит паузу. Ждет отклика от зала. А отклика нет. Не на что откликаться. Ну, так, хихикнут. А Карцев, к примеру, мучительно молчит, подыскивает слово... Это разные вещи — любовь и траханье.
М.С.-Н. У меня ощущение от вашего спектакля, что там другая скорость проживания, большая.
А.Я. Да. Время идет сейчас настолько быстро. Сокуров снимает весь фильм одним кадром. Чтобы перейти в другое состояние и не остаться в прошлом мгновении, нужна скорость. А она одна во времени — что в театре, что в физике. Актер это делает в физической скорости. Он прорывается в другое качество. Раньше этого было много, раньше выходил актер — и дух начинал с ним играть. Это давалось просто так. При закрытом объеме. А сейчас они не ловят на себя дух. Техники добычи духа — нет. Потеряна. Пока Бог давал, надо было запоминать. Знаешь, когда золота кругом много, его не замечаешь. Для меня актер — это уже после тридцати. До тридцати за тебя играет молодость. Ты не знаешь, откуда это берется. Ты приходишь в театр, видишь молодых, им все прощаешь, потому что это энергия. Но потом, если актер не сообразил, почему и как это делается... Вот мне очень нравилась одна актриса. Она выскакивала вся такая... как персик. А время прошло. Она уже тетка. А играет так же. Она не научилась технологии, то есть не стала актрисой. В основе любой профессии лежит технология. А иначе — это духовная импотенция и растрата таланта.
М.С.-Н. Пьеса у Клима записана без запятых... как в ролевой тетрадке...
А.Я. Да, это старые актеры так записывали все -столбиком. Чтобы видеть все вертикально. А не горизонтально. Государство требует горизонтали. И знаков препинания. Общепринятых. И там тоже нужен режиссер. Ну, кто-то, кто отвечает за все. За содержание. Потому что игра в государственном театре так же опасна для актера. Актер в государственном театре не должен отвечать за то, что он делает. Иначе это очень опасно. Ты сказал, что тебя завтра расстреляют, — все, за твоим плечом стоит смерть. Это не шутки.
Вообще-то за талантливым человеком, за гениальным человеком всегда видна смерть. Что такое мир? Это спор между живой и неживой энергией. Мир не плоский, он состоит из верха, низа... Человек посередине между верхом и низом, это призма между Богом и дьяволом... и он должен уметь подходить ко всем вещам. Лыков... Когда он приходит сюда, я ему говорю: приходишь сюда, переступи порог личных обязательств. Человек не имеет права говорить такие слова, как он говорит в спектакле. Имеет право АКТЕР. На сцене — утверждать. Как человек он сам сомневается. Но как актер он должен найти в себе мужество утверждать, говорить ТАК. Актер должен уметь исполнить обряд, то есть знать, как это играть. А вера - это уже прерогатива публики. Или прихожан в церкви. Зритель сам потом решит — так это, не так. Если театр — это зеркало, то зеркало ведь меняет право на лево. Если актриса кричит: «Бога нет!», то значит зритель должен понимать — Бог есть. Конечно, Лыков имеет это мужество. Для меня актера такого ранга больше нет. Для меня это подарок судьбы. Я его обокрал с ног до головы. В хорошем смысле. Он меня столькому научил. Сам того не ведая. Он очень подвижный актер. Он столько предлагал всего. Мне как режиссеру оставалось только отобрать варианты.
И сейчас я убежден — что-то можно сделать. Как, знаешь, говорится — стиль рождается раз в сто лет. Потом идет стилизация. Вот сейчас время, когда можно родить стиль. Если не испугаться. Если сказать себе «ничего нет». И начать с пустого места. Вот взять в какой-то момент ответственность на себя. Я думаю, что Лыков — очень мужественный человек, он берет ответственность. Кроме того, это же не просто — переиграть свой имидж.
Потом, к сожалению, еще вот что часто происходит: мы приходим работать в театр и начинаем заниматься людьми и их проблемами. Мы начинаем людей понимать, вникать, сочувствовать, давать советы, переживать их бытовые неурядицы. И театр превращается в собес. Это неправильно. В театре надо заниматься актерами и решать художественные задачи. Я Лыкова не знаю как человека, я знаю его как актера. Мы не дружим, мы работаем. И это мне нравится. Как Клим сказал, мне очень нравится одна его замечательная фраза: «Не бойтесь гениальности, гениальность не передается. Бойтесь серости — хуже сифилиса, передается бытовым способом: поговорил с человеком, и сам стал серым». Я, когда прошу актеров не опаздывать на репетицию, имею в виду, что при наплевательском отношении рождается некий негатив, который действует на всех — и на меня тоже, и на общее дело. Я говорю — будьте талантливы. Потому что если вы бездарны, или неорганизованны, или заняты своими проблемами, то через месяц работы и я буду бездарен. Взаимовлияние, диффузия. И со студентами также. Я говорю: если вы меня ничему не научите, я вас тоже ничему не научу. И меня не раз спасали актеры. И Лыков.
М.С.-Н. Лыков совершенно другой, чем в кино. Совсем. Даже лицо другое.
А.Я. А смотри - сейчас же отсутствие мужских лиц. На сцене нет мужского лица, которому бы я поверил. Я когда преподавал в институте, на курсе Фильштинского... Это еще один мой учитель, он интуитивный человек, гений. Он иногда не понимает зачем, но чувствует — надо. И делает это. Взять меня к себе на курс преподавать — это было безумие с его стороны, не объяснимое ничем. Ну, я и сейчас занимаюсь, строго говоря, педагогикой. Со взрослыми детьми. Так вот, когда я преподавал, я студентам говорил: первое, что должен актер, выйдя на сцену, - нравиться публике. Не важно, каким путем. А дальше — про макароны, про космос, это уже дальше, темы определяются государством. Сейчас распалась вся система, прежняя система взаимосвязей. Раньше кто-то что-то делал — все бежали посмотреть. Были как сообщающиеся сосуды. А сейчас! Каждый существует в таком вакууме! Никто не знает, что происходит за соседним забором. Все в себе.
И актеры в том числе - стали людьми, перестали видеть мир в целом. Им страшно, так же как людям. Они стали как обычные люди. Режиссеров сейчас надо очень мало. Потому что нечего собирать в целое. Что такое режиссура — умение сложить части. А частей-то нет. При попытке бегства все чашки разбились... Снова собрать мир воедино. Мне нравится притча — Бог был един и однообразен. Ему стало скучно — он рассыпался на элементы, он стал разнообразен, но потерял единство. Театр — это попытка собрать воедино полную картину мира для человека. Чтобы он имел о нем представление. О мире. Не о Боге, потому что церковь — это связь человека с Богом. А о мире. Театр — это связь человека с миром. Человек приходит в театр выбирать себе роль. Для меня учебник—книжка Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Где мир, то есть люди, приходят смотреть на волевое усилие актера, в результате чего они начинают видеть мир в целом. Разбитый для них на отдельные куски, он, мир, собирается воедино. И они на какое-то мгновение получают представление о мире в целом. Видят картину целого. И это на какое-то время их успокаивает. Ненадолго. Потом надо приходить еще и еще. Прикидывать на себя. Выбирать модель мира. Смотреть на мир. Вот этой попыткой собрать картину мира и занимается театр. И социальный театр. Когда мне говорят, что советский театр был конъюнктурным, мне хочется сказать — это был великий советский театр. Потому что он выполнял ту банальную функцию театра, собирал мир воедино. Потому что зритель приходил в театр — смотреть, как можно выжить в данное время, в данных социальных условиях, не теряя своего человеческого достоинства. Что будет, если ты переступишь в этой стране этот закон. Тюрьмы. Лагеря. Ссылка. Хочешь такой путь героя? Зритель говорит: нет, не хочу. Для государства театр был очень важен. Он показывал человеку последствия неправильных поступков. Потому что государство всегда — это рамки. Герой — это тот, кто перешагивает за рамки. И театр показывает, что дальше. Зритель говорит: нет, я не хочу. Вот, насмотрелся. Примерил на себя вариант. И страшно жаль актеров того, социального театра. Была же целая плеяда. Они как бродячие собаки. Брошенные, никому не нужные. Они за квартиру могут все что угодно. Нас приучили мыслить не Домами, а квартирами. Кладовками. Жалко актеров.
Вот один студент у Фильштинского снялся в телесериале. Ужасный телесериал. Зато квартиру купил. Но старик, ты же сторговал лицом! У тебя лицо изменилось, стало другое! Люди это прощают, и охотно, а Бог может и не простить. Оставит тебя с таким лицом на всю жизнь. И сколько же надо сил, чтобы противостоять!
«Звезд» стало много, а актеры исчезли. Ориентируемся по звездам. Темно. Как у негра в... Но уже надоело. Хочется света. Хочется ясности. Чтобы человек приходил сюда, чтобы учиться НЕ БОЯТЬСЯ.
Как говорит Лыков: «Мы не применяем никаких приемов. Прием будет потом. "Прием, прием! Меня слышно?" Слышно, значит есть прием».
2002г.
Петербургский Театральный Журнал, февраль 2002 г.
Мария Смирнова-Несвицкая
«Я... Она... Не Я и Я...»
Пьесу Клима читает Александр Лыков.
Режиссер Алексей Янковский
«Tombe la neige....» — слишком громко поет ностальгически близкий голос Адамо. «Добрый день я... Я хотел сказать меня зовут но... — слишком быстро говорит ностальгически знакомый актер, выходя на площадку. — В этой пьесе у моего героя нет имени вернее... Его собственно зовут я то есть...»
Он говорит так быстро, что я не сразу понимаю — что он говорит? Он говорит быстро и горячо, запинаясь, он что-то говорит мне, я должна понять, что хочет сказать этот странный носатый человек, он говорит так, что понятно — это важно, важно, очень важно, он что-то знает, что необходимо знать и мне. А может, не надо? Ну зачем мне нужны эти чужие эмоции, мне своих хватает... Так ли уж нужно включаться? Посижу тихо, пусть говорит сам по себе, а я тут побуду сама по себе... Что это он заикается? Надо же, какое темпераментное начало...
Однако через первые пять-семь минут спектакля мой внутренний голос заткнется. Он не найдет больше паузы для своих скептических реплик, он не найдет больше повода для спора и возражений. Он будет только иногда коротко вскрикивать в поддержку актера: «Да! Это так! И это правда! И это...» А потом вдруг мой внутренний голос растеряется и перепутает себя и голос актера. И я буду думать: это я думаю? Или не я? Или это она, моя душа? Потому что такие важные вещи, которые звучат в спектакле, человек должен говорить себе сам. Возможно, голосом Лыкова... Возможно, словами Клима...
Спектакль завершится фразой, как будто не имеющей непосредственного отношения к происходящему на площадке:
... Читая «ДВА ОБРАЗА ВЕРЫ» Мартина Бубера, думаю о театре, как возможно когда-то думал о нем единственно не охваченный безумием мужчина в клинике для душевнобольных. Его имя значилось в больничной книге как имя некоего мсье Антонена Арто, актера, утверждавшего, что «театр — чума», когда весь мир, западный мир, был охвачен чумой второй мировой... Москва. 2000. Клим
Это авторский «голос за кадром», реплика «в сторону, а parte». Однако фраза эта очень важна. Она - и благодарность, поклон учителям, признание «генетической» культурной связи, и одновременно пропуск в авторскую лабораторию. Названы два имени, за каждым из которых возникает целый космос вдохновенных идей, представляющих для сегодняшнего дня не просто интеллектуальный интерес, но самый насущный, необходимый для продолжения жизни — и творчества. Эти идеи незримо пронизывают и насыщают пространство спектакля, его воздух, перемешивая инстинкты с логикой, прошлое с настоящим, слово с голосом, мгновения отдельной жизни с вечностью мироздания. Думаю даже, что успех спектакля во многом зависит от энергии этих идей.
Трагическая фигура Антонена Арто с его «тотальным театром», «театром жестокости» и поисками «пространственного языка» в отношениях «театр-жизнь-слово» оказала — уже после его смерти — очень сильное влияние на развитие театрального процесса двадцатого столетия. Попытки Арто придать театру то сакральное значение, которое утратила европейская христианская традиция, сделать театр тем самым местом, которое бы служило очищению и перерождению человеческой души, обозначили вектор движения для многих мыслящих театральных людей. Гениальное наследие Арто, глобальный масштаб его театральных идей наряду с прожигающим все темпераментом и мифической бытовой неприспособленностью и неудачливостью будут поражать воображение и заряжать еще не одно поколение теоретиков и практиков театра. Тем более что силы, которые Арто привлекал к решению поставленных вопросов, включали в себя каббалистические учения, магию, восточные практики, герметическую философию со старшими арканами Таро, а также египетскую Книгу Мертвых.
Спектакль, сделанный по пьесе Клима, мистическим образом несет в себе тайну соприкосновения с духом Антонена Арто, и проанализировать это явление не представляется возможным в полной мере.
Существует связь явная, ее можно увидеть в следовании творческим принципам, и существует глубинная, ирреальная связь, помогающая и позволяющая эти принципы осуществить ВЖИВУЮ. Спектакль по пьесе Клима - это ЖИВОЙ пример ЖИВОГО театра. Описывая этот спектакль, я с удивлением понимаю, что могу использовать готовые формулы Арто, предъявляемые им в качестве требований к Театру. Это независимость от сюжета, это язык, где «произносимым словам придана та же значимость, какую они имеют в сновидениях», это попытка «создать реальную метафизику», «призыв к необычным идеям... которые касаются понятий Творения, Становления, Хаоса и относятся к космическому порядку, дают первое представление о той области, от которой театр совершенно отвык», и многие другие, явленные нам достоинствами этого спектакля.
Безусловно, недостатки там также есть. Мне представляется, к ним относится костюм актера, решенный в духе Магрита 1930-х годов или Мерета Опенгейма с его знаменитым чайным меховым прибором. Смысл, на который претендует костюм из «кирпичей», слишком поверхностен и не достигает планки, соответствующей работе драматурга, режиссера и актера. Вместо метафоры, «скрытой магии», образуется полупустой гэг, не слишком удавшийся умозрительный трюк. Идея «несовместимости материала и формы», идея «прозрачности» актера на фоне кирпичной стены работает отчасти вхолостую, постановочно не поддержана. В который раз можно посочувствовать театру из-за отсутствия художника в проекте по вполне понятным финансовым причинам.
Если для создания сценической формы, структуры, художественного языка спектакля авторы призвали дух Арто и он явно им очень помог, то к решению семантической задачи была весьма плодотворно привлечена еще одна великая тень — философа Мартина Бубера, принадлежавшего к направлению религиозного экзистенциализма, к которому также относились Габриэль Марсель, Карл Ясперс, Николай Бердяев, Лев Шестов. Смыслом существования Бубер считал непрекращающийся Диалог человека с Господом. Мартин Бубер, в ряду других своих трудов, перевел на немецкий язык Библию. Лев Шестов оценивал этот труд Бубера как подвиг, решение почти невыполнимой задачи: «дерзнуть воссоздать на нашем теперешнем языке искания и нахождения тех отдаленных времен, когда не люди творили истину, а истина открывалась людям».
Авторы спектакля — драматург, режиссер и актер — имеют смелость и дерзновение «воссоздать на нашем теперешнем языке искания» — и истина послушно открывается им. «Наш теперешний язык» — это формы нашего сегодняшнего мышления и общения, это определенные временем, зафиксированные драматургом и услышанные режиссером и актером косноязычие, дерганый ритм, заикающаяся, спотыкающаяся речь, сквозь которые в спектакле проступает удивительно ясная и простая истина.
Истина — опять о том же. Эта истина стара как мир и нова для каждого поколения. Истина о том, что человек не выживает без Бога на этой земле. О том, что человек, много раз похоронив Бога за всю историю своего существования, опять, снова и снова, беспомощно или грозно, агрессивно или сиротливо, как брошенный ребенок, ищет Его в любой травинке, в земной любви, женщина — в мужчине, мужчина — в женщине, в зеркале, в себе, в книге, в небе, в солнечном луче, падающем налицо...
Каждый век требует своего языка. Мало того, что требует — он только его и понимает. Постсоветскую культуру до сих пор пугает пафос «правильности». Долгие годы нам казалось, что истина, изреченная безупречным литературным языком, подозрительна своим скрытым родством с языком официальным, а значит, лживым. Подсознательно мы более сочувствуем и доверяем человеку, мучительно подыскивающему слова, спотыкающемуся о грамматические конструкции, пробивающему дорогу своей мысли с видимым и ощущаемым трудом. В спектакле это не просто точно найденный «ход» режиссера или безупречная органика актера, это разыскание и обнаружение сценического языка, адекватного ценностям времени. Если углубиться в анализ языка пьесы, обнаружится некая лингвистическая структура, напоминающая конструкции Платонова, чей язык стал абсолютным выражением, документом своей страшной эпохи. Здесь, как и у Платонова, возникает ощущение дополнительной реальности, другого по плотности воздуха, как в высокогорье — меняется режим дыхания, а потому и жизни, и мышления. Однако здесь пространство между словами прорастает надеждой и даже вызывает в памяти забытое слово «катарсис». Здесь театр — это попытка Веры, условно говоря, это заповеди, пересказанные так, чтобы о них мог задуматься любой человек в 2002 году. Даже если его душа прочно сидит на цепи атеистического сознания.
«Танцуют все!» — провозглашает актер, прыгая под бодрую музычку, — и становится понятно, что «танцуют» действительно все — все так или иначе живут, и для всех рано или поздно встают вопросы, заданные в спектакле. Оригинальность и энергия драматургического материала находят сценическое воплощение с помощью удивительной личности — актера Александра Лыкова. Впрочем, создание пьесы и было спровоцировано самим существованием такого актера, ибо пьеса написана на него и для него. Суперпопулярное лицо, имидж и экранное имя покорителя дамских сердец, соответствующие имиджу манеры — все эти атрибуты успешной кинозвезды оказываются сброшены, как устаревшая одежда, он с легкостью перешагивает через них и — обретает совершенно новое качество. В его лице театральная публика получает уникального актера, своеобразного, обладающего не только талантом, темпераментом, невероятным обаянием и техникой, но — внутренней свободой, способностью экспериментировать и главное — мыслить. Отказ укладываться в прокрустово ложе мыльного сериала уже выводит его из общего строя в разряд одиночек, сообщая нам еще одну тайну характера личности — присутствие смелости и интеллекта. Соединение всех этих качеств «под одной крышей» — почти невероятный случай.
Еще один существенный мотив спектакля: на сцене проходит часть жизни актера — играя спектакль, сам актер никуда не исчезает, он как личность присутствует и существует в любой момент жизни персонажа. Там, где актер, там и вопрос: я это или не я? Сколько существует актерская профессия, столько же будут мучить «человека играющего» взаимоотношения между персонажем и актером, между актером и его «эго», между человеком и его лицами, между душой и ее видимой оболочкой. Этим вопросом в разные времена задавались чрезвычайно талантливые и умные люди — и здесь опять невозможно избежать мысленного дискурса, краткой переклички имен — от Михаила Чехова и Брехта до Гротовского и Анатолия Васильева. И опять в спектакле возникает ощущение, что энергии этих исканий помогают актеру на площадке, помогают дышать, помогают жить.
Спектакль необычный, «нетеатральный», и в определенном смысле к нему не применимы традиционные театроведческие оценки.
И поскольку возникла возможность поговорить с постановщиком спектакля Алексеем Янковским, я этой возможностью пользуюсь.
Алексей Янковский. А у нас не спектакль. Мы не конкурируем. Мы делаем то, о чем мечтаем. Заново надо учить людей делать то, о чем они мечтают. А когда люди делают то, о чем они мечтают, то и получается... ну…
У Леши в жизни есть такая манера — говорить междометие «ну...» с такой интонацией, что, мол, «ты-то знаешь, о чем я говорю». Эта интонация очень мобилизует собеседника, возникает эмоциональный импульс — хочется ответить, успокоить, мол, да, да, знаю, понимаю, пытаюсь понять. Леша может этими своими «ну» выразить очень много. Он иной раз даже и не пытается вслух сформулировать словами свою мысль — он просто ее думает и потом произносит слово «ну». И с этим «ну» его мысль как-то невербально сообщается собеседнику.
А.Я. Ну да. Я в институте, когда преподавал, Галендеев (педагог по речи) мне говорит: «Леша, что вы все "ну" да "ну"?» Но, согласись, очень многое передается не при помощи слов. Бывает же — просто выпьешь с человеком кофе и уже все про него знаешь...
Мария Смирнова-Несвицкая. Да, только эта манера очень заразна. Через полчаса тоже начинаешь говорить «ну». Ну. Расскажи, ну, о пьесе.
А.Я. Клим писал по моей просьбе для Саши. Именно для Саши. А с Климом мы давно знакомы, ты же знаешь. Только очень разные пути к театру. Клим, он же физик.
М.С.-Н. Он физик?
А.Я. Да, он по образованию физик. А потом пошел в театр. Он от физики идет к театру, ну, от науки идет к театру. Он приехал со словами: «Я хочу поставить нормальный спектакль для домохозяек». А я наоборот.
М.С.-Н. Что значит наоборот?
А.Я. Ну, я от театра иду к физике. То есть к технологии. Я же с театра и начинал. У меня первое образование актерское. Только я очень быстро понял, что актерское ремесло — это слишком подневольно для меня. И что я развалю любое хорошее дело. Так меня выталкивало на свой путь. Я тогда ушел из театра. Вообще ушел. Ну... Понимаешь, как уходят... проработал год в одной фирме, имел кучу денег, и в какой то момент я подумал, что пройдет три дня и я этих людей просто поубиваю. И я вернулся в театр. Но возвратиться можно только в другом качестве. Ну. Это закон. И мне пришлось начать все сначала. Со школьной скамьи. Я снова поступил в институт, снова стал студентом. Разными путями выводит в профессию. И теперь назад уже некуда идти, назад - значит потерять жизнь. Потому что ухода театр не прощает. Профессионалом становишься тогда, когда понимаешь, что ты уже столько туда вложил... Ну. Путь театра — это, конечно, особый путь. Но это глупость, когда пытаются приносить какие-то техники или готовую философию в театр. Мне говорят: «Я буддизм принесу в театр», это ерунда, никогда. «Просветление будет такое, как в буддизме». Если ты буддист, занимайся буддизмом. В театре свои правила. Многие из них просто забыты.
Я хочу открыть забытое. Что такое, к примеру, «говорить полным тоном»? Что они подразумевали под этим? Я читаю в мемуарах — знаменитая трагическая актриса Стрепетова готовит молодого актера для показа: «Завтра ты придешь в театр. Скажешь суфлеру "Не подавать" и будешь говорить полным тоном». Он так и сделал. На следующий день его приняли в театр. С большим гонораром. Вот как он говорил «полным тоном»? Или, к примеру, в Александринке работал такой актер знаменитый, Мамонт-Дальский. Он играл либо гениально, либо никак. И однажды были гастроли в Харькове, продали дорогие билеты. На Мамонта-Дальского. И весь Харьков пошел смотреть. А он как раз был не в духе. И играл «никак». Так «никак» минут пятнадцать-двадцать проходит, наконец в зале кто-то не выдерживает и возмущенно кричит: «Когда же будет играть Мамонт-Дальский?!» Тут Мамонт-Дальский останавливается и говорит: «Сейчас!» И начинает с этой секунды играть уже гениально. Вот как?
И Станиславский только сейчас приходит в театр. Просто сам Станиславский был верующим человеком. И все термины и понятия у него — в вере. А прочитано это было в век невероятного атеизма. И соответственно извращено до неузнаваемости. До противоположности, как и многое другое. Станиславский был модой. А теперь становится реальностью. «Школа переживания»... Школа переживания хороша в замкнутом объеме. А если объем не замкнут, то, переживая, ты получаешь в жизни ту же историю.
М.С.-Н. Кармическая привязка возникает? Актер подключается и на себя переводит.
А.Я. Да, и, собственно, то, чем я занимаюсь, — я занимаюсь техникой безопасности актера. Потому что вот в нашей истории мы пытаемся создать такой сильный образ, что если возникает он «как я», а не как «Актер», то он моментально получит по голове.
М.С.-Н. Да уж, примеры известны.
А.Я. Потому что актерство — это магический акт. В чем отличие мистики от магии? Мистика — это когда тебе туману напускают. А магия — это ясность. Это знания. Если ты сделал то-то, то дальше будет вот это. Теперь надо сделать вот это, и тогда будет то-то. Ты владеешь частями, составляешь из них. А если ты не знаешь, что получится от твоих действий, то это очень опасно. Я смотрю, когда играют актеры, скажем, смерть, умирать уходят в зал, я крещусь, потому что они не понимают, что они делают. И что за все придется ответить. И что режиссер — это очень нравственная профессия. Ну... Ты должен понимать, что ты делаешь. Иначе ты губишь людей. К тебе это не имеет отношения — а актер это играет. И ты должен понять, что это имеет силу ритуала.
М.С.-Н. Невежество приравнивается к преступлению. И в социальном театре, впрочем.
А.Я. А сейчас такое время, что социальный театр отпал. Ушел эзопов язык.
М.С.-Н. Парадокс, но это действительно оказалось большой потерей.
А.Я. Да. И что очень важно для социального театра — нет государственного заказа. Я смотрю спектакли в государственных театрах и понимаю, что у руководителей театров, у директоров государственных театров нет ответственности за качество. Нет заказа. С директоров театров никто не спрашивает качества. У них нет страха, не говоря уж о трепете. Они делают или пытаются делать коммерцию, спектакли, где декорация, к примеру, стоит два миллиона, а актер получает 800 рублей, ну пусть тысячу. И мне стыдно. Я смотрю на сцену и вижу — вот этот получает 600 рублей (если у него нет возможности сниматься), и мне стыдно. У них нет жизни, отняли возможность просто существовать. Или халтурь где-то. То есть театр снова стал любительским. Просто заниматься театром, в чистом виде, никто не может. Театр приходится совмещать с каким-то еще заработком. И в театре остались те, кто уже не может без него. Либо самые талантливые, либо наоборот. Золотой середины сейчас нет. Как и в стране, впрочем. Как в стране, так и в театре отсутствует воспроизводство. Нематериальных ценностей. Потому что театр — это зеркало, он отражает всю структуру. Ну, не знаю, может, и нужно продать все. Все продать, чтобы ничего не осталось. Чтобы стало пусто, пусто, пусто. Все должно умереть. Чтобы опять возникла необходимость, потребность в настоящем театре.
И опять — сейчас в театре просто опасно работать. Потому что техника актерской игры на грани катастрофы. Можно сказать, утеряно ремесло. Актерство — это небезопасная профессия, если не владеешь ею. Если тебе нечем наполниться, не знаешь, как восстанавливаться, за счет чего добирать душевных сил. И физических. Начинают тянуть из зрителей. Театр сейчас как Чечня для актера. Он выжигает все внутри, выхолащивает. Они начинают болеть. Умирать. Я хочу другой театр. Реабилитация нужна для актеров. Я пытаюсь создать некий реабилитационный центр. Чтобы актеры занимались тем, что дает им силы. Не убивает, а наоборот.
Хорошо, когда ты понимаешь, что твоя задача — не растратить силы, а их сохранить, то есть быть живым.
А в Питере особенная энергетическая ситуация. Здесь особенно много вакуума. И здесь больше страху, чем в Москве. И потому так много агрессии. Что такое агрессия? Это попытки защитить остатки духа. И сейчас совсем не стало мест, где ты можешь добыть живую энергию. В театр нельзя идти, потому что спектакли тебя просто выжимают. Им самим этого не хватает, этой энергии. После таких спектаклей начинаешь болеть. Это дорогие спектакли. После них надо пойти выпить. Или хорошо поесть.
Жванецкий очень здорово сказал. Что сейчас траханье от любви отличить нельзя. Процесс вроде похож. Только любовь же — это мучения. А я прихожу в театр, говорит Жванецкий, и вижу траханье. И не вижу этих мучений. Любимый мною когда-то артист Хазанов, говорит Жванецкий, сказал что-то и держит паузу. Ждет отклика от зала. А отклика нет. Не на что откликаться. Ну, так, хихикнут. А Карцев, к примеру, мучительно молчит, подыскивает слово... Это разные вещи — любовь и траханье.
М.С.-Н. У меня ощущение от вашего спектакля, что там другая скорость проживания, большая.
А.Я. Да. Время идет сейчас настолько быстро. Сокуров снимает весь фильм одним кадром. Чтобы перейти в другое состояние и не остаться в прошлом мгновении, нужна скорость. А она одна во времени — что в театре, что в физике. Актер это делает в физической скорости. Он прорывается в другое качество. Раньше этого было много, раньше выходил актер — и дух начинал с ним играть. Это давалось просто так. При закрытом объеме. А сейчас они не ловят на себя дух. Техники добычи духа — нет. Потеряна. Пока Бог давал, надо было запоминать. Знаешь, когда золота кругом много, его не замечаешь. Для меня актер — это уже после тридцати. До тридцати за тебя играет молодость. Ты не знаешь, откуда это берется. Ты приходишь в театр, видишь молодых, им все прощаешь, потому что это энергия. Но потом, если актер не сообразил, почему и как это делается... Вот мне очень нравилась одна актриса. Она выскакивала вся такая... как персик. А время прошло. Она уже тетка. А играет так же. Она не научилась технологии, то есть не стала актрисой. В основе любой профессии лежит технология. А иначе — это духовная импотенция и растрата таланта.
М.С.-Н. Пьеса у Клима записана без запятых... как в ролевой тетрадке...
А.Я. Да, это старые актеры так записывали все -столбиком. Чтобы видеть все вертикально. А не горизонтально. Государство требует горизонтали. И знаков препинания. Общепринятых. И там тоже нужен режиссер. Ну, кто-то, кто отвечает за все. За содержание. Потому что игра в государственном театре так же опасна для актера. Актер в государственном театре не должен отвечать за то, что он делает. Иначе это очень опасно. Ты сказал, что тебя завтра расстреляют, — все, за твоим плечом стоит смерть. Это не шутки.
Вообще-то за талантливым человеком, за гениальным человеком всегда видна смерть. Что такое мир? Это спор между живой и неживой энергией. Мир не плоский, он состоит из верха, низа... Человек посередине между верхом и низом, это призма между Богом и дьяволом... и он должен уметь подходить ко всем вещам. Лыков... Когда он приходит сюда, я ему говорю: приходишь сюда, переступи порог личных обязательств. Человек не имеет права говорить такие слова, как он говорит в спектакле. Имеет право АКТЕР. На сцене — утверждать. Как человек он сам сомневается. Но как актер он должен найти в себе мужество утверждать, говорить ТАК. Актер должен уметь исполнить обряд, то есть знать, как это играть. А вера - это уже прерогатива публики. Или прихожан в церкви. Зритель сам потом решит — так это, не так. Если театр — это зеркало, то зеркало ведь меняет право на лево. Если актриса кричит: «Бога нет!», то значит зритель должен понимать — Бог есть. Конечно, Лыков имеет это мужество. Для меня актера такого ранга больше нет. Для меня это подарок судьбы. Я его обокрал с ног до головы. В хорошем смысле. Он меня столькому научил. Сам того не ведая. Он очень подвижный актер. Он столько предлагал всего. Мне как режиссеру оставалось только отобрать варианты.
И сейчас я убежден — что-то можно сделать. Как, знаешь, говорится — стиль рождается раз в сто лет. Потом идет стилизация. Вот сейчас время, когда можно родить стиль. Если не испугаться. Если сказать себе «ничего нет». И начать с пустого места. Вот взять в какой-то момент ответственность на себя. Я думаю, что Лыков — очень мужественный человек, он берет ответственность. Кроме того, это же не просто — переиграть свой имидж.
Потом, к сожалению, еще вот что часто происходит: мы приходим работать в театр и начинаем заниматься людьми и их проблемами. Мы начинаем людей понимать, вникать, сочувствовать, давать советы, переживать их бытовые неурядицы. И театр превращается в собес. Это неправильно. В театре надо заниматься актерами и решать художественные задачи. Я Лыкова не знаю как человека, я знаю его как актера. Мы не дружим, мы работаем. И это мне нравится. Как Клим сказал, мне очень нравится одна его замечательная фраза: «Не бойтесь гениальности, гениальность не передается. Бойтесь серости — хуже сифилиса, передается бытовым способом: поговорил с человеком, и сам стал серым». Я, когда прошу актеров не опаздывать на репетицию, имею в виду, что при наплевательском отношении рождается некий негатив, который действует на всех — и на меня тоже, и на общее дело. Я говорю — будьте талантливы. Потому что если вы бездарны, или неорганизованны, или заняты своими проблемами, то через месяц работы и я буду бездарен. Взаимовлияние, диффузия. И со студентами также. Я говорю: если вы меня ничему не научите, я вас тоже ничему не научу. И меня не раз спасали актеры. И Лыков.
М.С.-Н. Лыков совершенно другой, чем в кино. Совсем. Даже лицо другое.
А.Я. А смотри - сейчас же отсутствие мужских лиц. На сцене нет мужского лица, которому бы я поверил. Я когда преподавал в институте, на курсе Фильштинского... Это еще один мой учитель, он интуитивный человек, гений. Он иногда не понимает зачем, но чувствует — надо. И делает это. Взять меня к себе на курс преподавать — это было безумие с его стороны, не объяснимое ничем. Ну, я и сейчас занимаюсь, строго говоря, педагогикой. Со взрослыми детьми. Так вот, когда я преподавал, я студентам говорил: первое, что должен актер, выйдя на сцену, - нравиться публике. Не важно, каким путем. А дальше — про макароны, про космос, это уже дальше, темы определяются государством. Сейчас распалась вся система, прежняя система взаимосвязей. Раньше кто-то что-то делал — все бежали посмотреть. Были как сообщающиеся сосуды. А сейчас! Каждый существует в таком вакууме! Никто не знает, что происходит за соседним забором. Все в себе.
И актеры в том числе - стали людьми, перестали видеть мир в целом. Им страшно, так же как людям. Они стали как обычные люди. Режиссеров сейчас надо очень мало. Потому что нечего собирать в целое. Что такое режиссура — умение сложить части. А частей-то нет. При попытке бегства все чашки разбились... Снова собрать мир воедино. Мне нравится притча — Бог был един и однообразен. Ему стало скучно — он рассыпался на элементы, он стал разнообразен, но потерял единство. Театр — это попытка собрать воедино полную картину мира для человека. Чтобы он имел о нем представление. О мире. Не о Боге, потому что церковь — это связь человека с Богом. А о мире. Театр — это связь человека с миром. Человек приходит в театр выбирать себе роль. Для меня учебник—книжка Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Где мир, то есть люди, приходят смотреть на волевое усилие актера, в результате чего они начинают видеть мир в целом. Разбитый для них на отдельные куски, он, мир, собирается воедино. И они на какое-то мгновение получают представление о мире в целом. Видят картину целого. И это на какое-то время их успокаивает. Ненадолго. Потом надо приходить еще и еще. Прикидывать на себя. Выбирать модель мира. Смотреть на мир. Вот этой попыткой собрать картину мира и занимается театр. И социальный театр. Когда мне говорят, что советский театр был конъюнктурным, мне хочется сказать — это был великий советский театр. Потому что он выполнял ту банальную функцию театра, собирал мир воедино. Потому что зритель приходил в театр — смотреть, как можно выжить в данное время, в данных социальных условиях, не теряя своего человеческого достоинства. Что будет, если ты переступишь в этой стране этот закон. Тюрьмы. Лагеря. Ссылка. Хочешь такой путь героя? Зритель говорит: нет, не хочу. Для государства театр был очень важен. Он показывал человеку последствия неправильных поступков. Потому что государство всегда — это рамки. Герой — это тот, кто перешагивает за рамки. И театр показывает, что дальше. Зритель говорит: нет, я не хочу. Вот, насмотрелся. Примерил на себя вариант. И страшно жаль актеров того, социального театра. Была же целая плеяда. Они как бродячие собаки. Брошенные, никому не нужные. Они за квартиру могут все что угодно. Нас приучили мыслить не Домами, а квартирами. Кладовками. Жалко актеров.
Вот один студент у Фильштинского снялся в телесериале. Ужасный телесериал. Зато квартиру купил. Но старик, ты же сторговал лицом! У тебя лицо изменилось, стало другое! Люди это прощают, и охотно, а Бог может и не простить. Оставит тебя с таким лицом на всю жизнь. И сколько же надо сил, чтобы противостоять!
«Звезд» стало много, а актеры исчезли. Ориентируемся по звездам. Темно. Как у негра в... Но уже надоело. Хочется света. Хочется ясности. Чтобы человек приходил сюда, чтобы учиться НЕ БОЯТЬСЯ.
Как говорит Лыков: «Мы не применяем никаких приемов. Прием будет потом. "Прием, прием! Меня слышно?" Слышно, значит есть прием».
2002г.