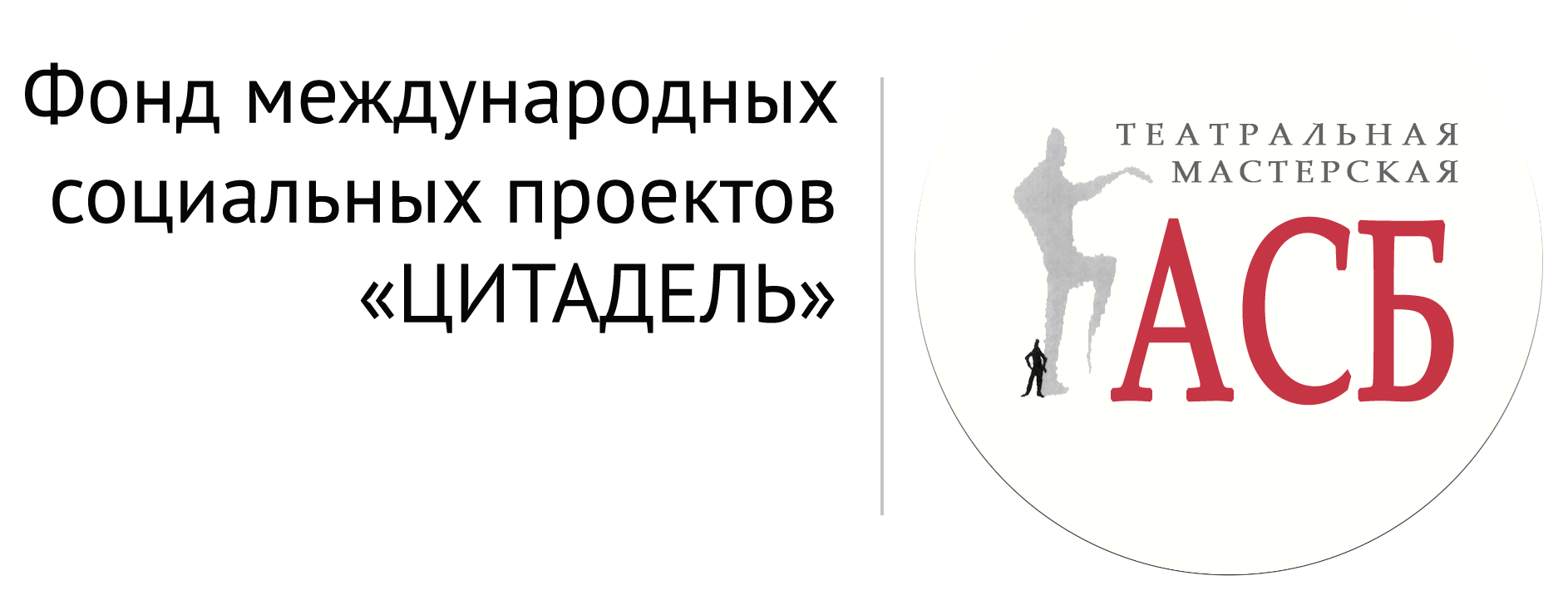Репертуар

Спектакль "Бес-Сон-Ницца"

«ТРИДЦАТЬ ТРИ ЛИЦА АЛЕКСАНДРА КОШКИДЬКО»
2022−02 • Алина Арканникова, Петербургский театральный журнал
2022−02 • Алина Арканникова, Петербургский театральный журнал
Александр Кошкидько — персонаж. Худощавая фигура ростом под два метра, бритая голова, облако рыжей бороды, огромные голубые глаза. Не запомнить сложно.
В 2008 году Кошкидько окончил курс Р. Б. Громадского в Гуманитарном университете профсоюзов и с тех пор исполнил без малого 50 ролей, успевая попутно мелькать в эпизодах более или менее коммерческого кино.
Актер состоит в труппе Театра «На Литейном», играет в спектаклях LUSORES, активно сотрудничает с АХЕ, Teatro di Capua, Таким театром, Лабораторией Яны Туминой, с недавних пор — с Алексеем Янковским и Мастерской АСБ.
Кошкидько почти неуловим. В понедельник это фокусник с улыбкой Мефистофеля в перформансе АХЕ. Во вторник — задумчивый и ранимый чудик из «Антарктиды» П. Чижова. По утрам в среду и в четверг — добрый и забавный бородач в каком угодно детском спектакле, а по вечерам он же безудержно и бесшабашно комикует в «СиНфонии N 2» А. Савчука на сцене «Особняка». В пятницу Кошкидько превращается в участника священнодействия «Лавра» Б. Павловича. Чтобы в субботу спокойно и жутко рассказать историю народовольца в «Жизни за царя» Дж. Ди Капуа. А в воскресенье — сесть на стул посреди пустой сцены и два часа говорить о бессоннице героя Достоевского («Бес-Сон-Ницца», А. Янковский).
И все-таки некоторые черты и свойства остаются при нем всегда. Думается, что это и есть основа его актерской природы.
Кошкидько — чудак. Абсолютно во всех спектаклях, от «Лавра» до микрооперы «Ры» (А. Савчук, 2018); разве что явлено это чудачество в разных формах и степенях.
Кошкидько — актер театра, не скрывающего своей условной природы. Закономерно, что эта склонность привела его в циркаческие перформансы АХЕ, в авангардные опыты LUSORES. Уж скорее странен на этом фоне факт сотрудничества с Театром «На Литейном».
Хотя парадокса нет: реализм его героев всегда условен. Наблюдать это можно, к примеру, в «Антарктиде» (Театр «На Литейном», 2016). В основе — пьеса У. Гицаревой о трех полярниках, застрявших на станции «Молодежная». Показательно, что жанр спектакля Чижова — мокьюментари: не факты, но игра в них. Так и с героем Кошкидько, отцом Александром, чей психологизм обманчив. Актер играет его странным, этаким лирическим чудаком — а кто запретит чудаку исповедовать чудную логику и совершать поступки, не обнаруживающие прямых мотивировок. Как будто бы и есть психология, но понять ее невозможно.
Нервная подвижность, острое чувство юмора, любовь к самому процессу игры — Кошкидько склонен к контрастам, к соседству противоположностей. Монтажная композиция ему куда ближе, чем причинно-следственная. Клиповое мышление, мышление образными рядами — ближе аналитики и психологии, ближе исповедальной интонации. Череда пластических или музыкальных сцен-зарисовок — ближе, чем любой монолог.
Кошкидько — иронист, но даже у его юмора есть целый комплект форм и воплощений. Меняется интонация смеха — от мягкой иронии до грубой насмешливости, меняется и способ игры. Сегодня во многих ролях Кошкидько есть эксцентрика, но на деле этот прием — далеко не единственный.
В АХЕ Кошкидько увлекся фарсом с насмешливой интонацией и намеренно сгущенными красками. Сотрудничество с Инженерным театром, которое началось в 2013 году и продолжается по сей день, оказало на актера безусловно огромное влияние. Но все же Кошкидько никогда не переносит приемы ахейской игры впрямую на роли в других театрах, не копирует их. Фарс и насмешка на самом-то деле не очень соотносятся с главной темой актера. А последние девять лет комическая игра Кошкидько преисполнена лирики.
Лирика — сквозная тема не только его образов, но и творческого мировосприятия в целом. Присущие актеру интуитивизм и нервная подвижность закономерно приводят к ранимости практически всех героев Кошкидько, в них есть странный надлом, момент драматического несовпадения с миром. Когда в «Жизни за царя» звучит предсмертное письмо народовольца Макара Тетерки родным, не пропадает чувство, что мир обошелся с ним несправедливо. Его бунт воспринимается как жест чуткой души, которая страдает и болеет, видя кругом несправедливость и насилие.
Это же чувство неустроенности позволяет Кошкидько стать частью ансамбля «Лавра» Б. Павловича и «Гекатомбы» Я. Туминой. Душевная боль человека повышенной восприимчивости, проходящая через многие работы Кошкидько, рифмуется и с крестным путем Арсения из «Лавра», и, тем более, с пронзительным рассказом «Гекатомбы» о жизни на пределе.
Корень лиризма Кошкидько — в душевном надломе и конфликтных отношениях с действительностью. Парадоксальным образом этот странный диссонанс отражается даже на его пластике. Казалось бы, актер отлично владеет собственной физикой, и все-таки он неуловимо неловок. Кошкидько утрирует это качество, иронически обыгрывает его. В иронии этой есть что-то нервное, в смехе актера никогда не слышится полного счастья. Что-то нервное и — лирическое.
Ощущение несовпадения с миром дает начало драматическому мировосприятию. Путь Кошкидько к утверждению лирического начала совпадает с возвращением к исключительно драматическим ролям и развитию в них. Кажется, что актерская эволюция Кошкидько — и есть последовательный путь к чисто драматической игре. Ни перформативные эксперименты АХЕ, ни ритуально-клиповый аспект спектаклей LUSORES, ни эксцентрика их обоих не увели Кошкидько от склонности к драме.
Актер редко играет в спектаклях, поставленных по пьесам. Редко играет персонажей-людей. И тем не менее его герои вступают в конфликтные отношения с кем-то или чем-то, претерпевают некие внутренние процессы, развиваются и меняются на протяжении спектакля.
Первая большая и успешная роль Кошкидько — драматическая, главный герой «Зангези» А. Савчука (LUSORES, 2011). Между Зангези и последней премьерой — Афанасием Тоцким в «Бес-Сон-Ницце» А. Янковского (Мастерская АСБ, 2021) — множество экспериментов, находок, опытов и удач. Но на деле актер вернулся к тому, с чего начинал одиннадцать лет назад, — только уже совершенно на другом уровне.
«Зангези» поставлен по одноименной сверхповести Велимира Хлебникова.
Эксперименты поэта со структурой и композицией текста — 21 плоскость, огромное количество героев — Савчука интересуют в меньшей степени. В центр спектакля недвусмысленно поставлена фигура самого Зангези, по сути, все 50 минут действия — это исследование его образа. Весь спектакль — это монолог Зангези, изредка прерываемый девушками-птицами (В. Евтюхина, А. Прохорова) и условными «всеми остальными» в лице самого Савчука.
Зангези—Кошкидько — пророк и визионер, поэт-духовидец, разорванный между тем миром и этим. На протяжении всего спектакля он рассказывает человечеству (буквально граду и миру) об историческом прошлом как о событиях, которым еще только предстоит случиться. Но постепенно у него кончаются силы, и все яснее видны усталость и горечь от осознания неизбежной повторяемости истории — в паузах, в моментах, когда Зангези передает слово другим героям.
В финале Зангези умирает, но только на минуту. Такая театральная смерть и театральный же выход вверх. Герой встает и без тени иронии произносит: «Зангези жив, это была неумная шутка». Но цикл завершился — Зангези отдал всего себя и умер. Другой вопрос, что у него, видимо, не может быть ни настоящей смерти, ни настоящей жизни — все-таки он не совсем человек.
В следующем же сезоне, в 2012 году, Кошкидько играет Энкиду в «Гильгамеше» (часть «1, 2: Двойники»), в образе которого драматическое даже более явно, чем в Зангези. Герой цикла спектаклей по шумеро-аккадскому «Эпосу о Гильгамеше» переживает мощную духовную эволюцию, покидая привычный мир природы и открывая в себе огромную силу, становясь названым братом «равному богам» царю Гильгамешу (В. Гребенщиков).
Линии Гильгамеша и Энкиду последовательно развиваются от начала до конца, складываясь в целостный процесс. Кошкидько не проговаривает впрямую того, что происходит в душе Энкиду, но многое играется при помощи даже одного только медленно меняющегося выражения лица.
Новый этап движения Кошкидько к драматическим ролям яснее всего виден по роли в микроопере «Ры» (2018). «Ры» показательна во многом потому, что в ней Кошкидько — уже не участник более или менее многочисленного ансамбля, в отличие от перформативных экспериментов в АХЕ, многих ролей в Театре «На Литейном», «Слова и дела» и «Жизни за царя» у Ди Капуа. Актерская работа лично Кошкидько в этом спектакле занимает куда большее пространство — и фактическое, и временное, и, главное, смысловое, — чем во всем названном выше.
Спектакль строится по принципу программы вечера в кабаре — череда музыкальных, пластических и «разговорных» номеров. В основе каждого — одно из стихотворений Ры Никоновой (Анны Таршис), поэта, музыканта и перформера родом из авангарда 1960-х.
Микроопера полна эксцентрики и абсурдистского юмора, но чем ближе к финалу, тем больше нарастает трагический градус происходящего.
Сами номера разнообразны. С одной стороны — и смешные, и жуткие эксцентрические сцены-«юморески», с другой — медитативные музыкальные эпизоды. Постепенно второе перекрывает первое, последние 15 минут спектакля — и вовсе полноценный музыкальный трип. Постепенно исчезает поэтическое слово, остается только вокал Кошкидько, а потом уходит и он — все растворяется в тягучем барабанном соло (барабаны — А. Иванов, саунд-дизайн — Г. Прохоров).
Спектакль по поэзии Ры Никоновой — конечно, и о ней самой. Не о поэте, но о ее «лирической героине». Она словно пребывает в диалоге с собой. Диалог этот театрализован, и участвуют в нем два условных персонажа, два лицедея, сыгранные Савчуком и Кошкидько.
Так, в юморесках Савчук — коварный конферансье с дьявольской ухмылкой, а Кошкидько — Пьеро, подавшийся в клоуны. Невысокий и долговязый, белый пиджак и серый, солдат и гусь. Таким дуэтом они разыгрывают вариации диалога солдата и гуся, в случае последнего — предсмертного.
У Савчука — коварно склоненная голова, улыбка чеширского кота и утрированная бодрость. У Кошкидько — подпрыгивающая интонация, тон перманентно удивленного комического дурака.
Холодок абсурдистской иронии не маскируется, гомерический хохот вызывает сама отклеенность ситуации от нормального, по всем критериям. И — фигуры двух актеров, персонажи которых все прекрасно понимают, но с обворожительным нахальством «обманывают» зрителя, придуриваясь, пародируя, играя в игру.
А на другом полюсе гротескной амплитуды — абсолютно серьезные стихотворения Ры Никоновой. Динамита экспрессии в них даже больше, чем в «юморесках», но она совсем другого качества.
Так, музыкальный номер на основе «Смерти» («Звезда убилась…») играется как будто бы на предельном напряжении. Гротеск сохраняется: стихотворение исполнено тем же дуэтом противоположностей — тянущий загробным басом Савчук—Конферансье и взвизгивающий неврастеническим фальцетом Кошкидько—Пьеро. Кажется, что голоса в самом деле выводят свои темы, как смычок виолончели выпиливал бы ноты, то взлетая, то спускаясь по единственной струне, которая того и гляди лопнет.
Юмор кабаре имени Ры трещит по швам, чем дальше — тем отчетливее в стихах слышится трагизм. Чем дальше, тем больше эпизодов Кошкидько играет и вовсе вне комического. В номере «Снег-тень» актер медленно уходит со сцены, беззвучно делая маленький прыжок то влево, то вправо, каждый раз негромко говоря «снег» или «тень». За «снегом» здесь скрывается перевернутое, переигранное «свет». Неведомая сила перебрасывает героя то на один берег, то на другой. И Кошкидько в этот момент абсолютно серьезен и печален.
Поэт здесь не вырывает у неба Божественные откровения, он их просто слышит — такая природа сознания. Ему все это, может, и не нужно, но никуда не денешься.
Поэтому в лакунах неиронической игры Кошкидько есть необъяснимая грусть. Весь карнавал эксцентрики драпирует эту странную тоску, но на деле только обнажает ее. Это тоска клоуна, который растерял все свои маски и остался один — полупрозрачная и абсолютно беззащитная субстанция. Ирония как будто бы защищала и поэта, и ее внутренний голос от обжигающих дуновений какого-то инобытийного ветра — но все-таки бесконечно уворачиваться от него невозможно.
Так в, казалось бы, абсолютно дробном, монтажном по структуре спектакле возникает целостный образ как условие актерского существования. И вполне драматическая фигура, переживающая болезненное столкновение с миром.
Вот только от финального и самого болезненного момента спектакль уводит. С действительно тяжелых болевых точек Кошкидько намеренно соскальзывает в иронию. Или — становится ничего не играющим вокалистом, как это происходит перед финальным барабанным соло А. Иванова.
В совершенно новые условия Кошкидько поставила роль Питера Фройхена в «Живом» (Театральная лаборатория Яны Туминой и Александринский театр, 2021).
Главная и почти единственная роль, большое количество текста. Хотя на деле Кошкидько играет не только Питера Фройхена, но и читателя, взявшегося за дневники известного полярника. Читатель смотрит на слова и не понимает, был ли вообще Фройхен человеком. Спектакль дробится монтажными склейками, Кошкидько то и дело выпрыгивает из роли Фройхена, принимает позицию читателя, который словно бы разыгрывает жизнь исследователя в собственном воображении. Есть и третья ипостась — диджей за пультом, установленным прямо посреди Новой сцены.
Сквозная тема спектакля — победа над смертью. Победа на грани фантастики и абсурда, до смешного. Тумина акцентирует этот мотив, вводя в спектакль второго актера, Александра Балсанова. Горловое пение Балсанова приносит на сцену не только обобщенный дух севера, но и саму смерть, с которой непрерывно борется Фройхен.
Фройхен побеждает смерть трижды — в одиночку пережив полярную зиму, вылечившись от испанки и выбравшись из-под толстого слоя льда.
Отношение к ней меняется. После окончания полярной зимы, когда к Фройхену приходит осознание, что ему удалось не сойти с ума, не умереть от голода и не дать волкам себя съесть, наступает момент чуть ли не катарсического взрыва. Проснувшаяся в герое любовь к жизни даже в слова не укладывается. Кошкидько, включив с пульта свой же трек «Монтана», вскакивает на высокий помост, поднятый в центре площадки, и с минуту отплясывает: иронически, но все-таки торжествующе.
Роль требует постоянной смены точек зрения — то незадачливый читатель, то плод его воображения. Попытка понимания документа, чьей-то реальной, но невероятной жизни обречена на провал — «Живой», во многом, и об этом. Жизнь Питера Фройхена невозможно примерить на себя, ее можно только воспринять отстраненно — как это и делает читатель.
Роль идеально вписывается в тот путь к драматической игре, по которому, как сегодня видно, движется Кошкидько. Но все же она требует от актера выхода на новый этап — более органичного процессуального существования, способности долго пребывать в монологе.
Собственно, «новый этап» наступил внезапно. В ноябре 2021 года в присутствии от силы сорока зрителей Кошкидько принял участие в читке пьесы Клима «Бес-Сон-Ницца» в рамках проекта «8 из числа 7, или Семь дней с „Идиотом"» А. Янковского. Вполне возможно, что в первый и последний раз.
В основе пьесы — история второстепенного героя «Идиота» Афанасия Тоцкого. Тоцкий находится в лечебнице для умалишенных в Ницце, мучается от бессонницы и мало-помалу впадает в тягучий и болезненный монолог.
С героем Достоевского персонаж Клима имеет мало общего. Тоцкий предстает как самостоятельная, цельная фигура. Следуя за текстом пьесы, Кошкидько создает измученного душевной болью героя, чудака и лирика, странного человека, у которого как будто бы нет кожи, нет защитного барьера.
Два с половиной часа Кошкидько находится в непрерывном монологе. Ноль комического, ноль шансов свернуть с прямого как рельс маршрута, в конце которого ждет пропасть.
Актер наполняет Тоцкого чем-то глубоко личным — и появляется тот самый чудак, растерянный и ранимый лирик-лицедей, который уже открывал свое настоящее лицо в «Ры». Вот только здесь спасательный круг иронии появиться не может и не должен. Янковский ведет Кошкидько к полному раскрытию точки мучительной боли.
Ближе к финалу пьесы возникает едва ли не самостоятельная история о родителях Тоцкого, которых он неожиданно узнал в попрошайках на парковой скамейке. И если мать действительно не помнит сына, то отец его все-таки признает — но просит дать милостыню и уйти, чтобы не разрушать их счастливую теперь жизнь.
И в этой секунде до срыва, в экстремальной ситуации, Кошкидько вдруг играет невыносимую боль Тоцкого во всех подробностях и оттенках. Голос становится тише; интонация, которая до сих пор все-таки была театральной, отчасти декламационной, раскладывается на неуловимо тонкие нюансы. Тоцкий как персонаж обнаруживает универсальность. Встреча героя с родителями на деле — встреча с небытием, вернее, с бытием в самом что ни на есть подлинном проявлении.
Экстремальный шаг дает в результате фантастический уровень содержательной экспрессии. Тоцкий в финале монолога становится больше самого себя и вдруг видит тот ослепительный свет, ту правду о мироздании, от которой до сих пор отделяли слои атмосферы и защитные механизмы психики.
Сегодня последняя роль кажется только штрихом к портрету. Но именно «Бес-Сон-Ницца» окончательно утверждает в Кошкидько драматического актера.
Через образ Тоцкого актер открывает в себе новую ипостась: чудак-лирик становится лицом в полном смысле слова действующим. Он не может ничего изменить, но все-таки может совершить волевой жест и отпустить себя в свободное падение.
Может быть, это самоубийство. Но скорее — экзистенциальный выбор, силы на совершение которого вдруг обнаруживает в себе самый неустойчивый и ранимый герой.
Первая половина февраля 2022 г.
В 2008 году Кошкидько окончил курс Р. Б. Громадского в Гуманитарном университете профсоюзов и с тех пор исполнил без малого 50 ролей, успевая попутно мелькать в эпизодах более или менее коммерческого кино.
Актер состоит в труппе Театра «На Литейном», играет в спектаклях LUSORES, активно сотрудничает с АХЕ, Teatro di Capua, Таким театром, Лабораторией Яны Туминой, с недавних пор — с Алексеем Янковским и Мастерской АСБ.
Кошкидько почти неуловим. В понедельник это фокусник с улыбкой Мефистофеля в перформансе АХЕ. Во вторник — задумчивый и ранимый чудик из «Антарктиды» П. Чижова. По утрам в среду и в четверг — добрый и забавный бородач в каком угодно детском спектакле, а по вечерам он же безудержно и бесшабашно комикует в «СиНфонии N 2» А. Савчука на сцене «Особняка». В пятницу Кошкидько превращается в участника священнодействия «Лавра» Б. Павловича. Чтобы в субботу спокойно и жутко рассказать историю народовольца в «Жизни за царя» Дж. Ди Капуа. А в воскресенье — сесть на стул посреди пустой сцены и два часа говорить о бессоннице героя Достоевского («Бес-Сон-Ницца», А. Янковский).
И все-таки некоторые черты и свойства остаются при нем всегда. Думается, что это и есть основа его актерской природы.
Кошкидько — чудак. Абсолютно во всех спектаклях, от «Лавра» до микрооперы «Ры» (А. Савчук, 2018); разве что явлено это чудачество в разных формах и степенях.
Кошкидько — актер театра, не скрывающего своей условной природы. Закономерно, что эта склонность привела его в циркаческие перформансы АХЕ, в авангардные опыты LUSORES. Уж скорее странен на этом фоне факт сотрудничества с Театром «На Литейном».
Хотя парадокса нет: реализм его героев всегда условен. Наблюдать это можно, к примеру, в «Антарктиде» (Театр «На Литейном», 2016). В основе — пьеса У. Гицаревой о трех полярниках, застрявших на станции «Молодежная». Показательно, что жанр спектакля Чижова — мокьюментари: не факты, но игра в них. Так и с героем Кошкидько, отцом Александром, чей психологизм обманчив. Актер играет его странным, этаким лирическим чудаком — а кто запретит чудаку исповедовать чудную логику и совершать поступки, не обнаруживающие прямых мотивировок. Как будто бы и есть психология, но понять ее невозможно.
Нервная подвижность, острое чувство юмора, любовь к самому процессу игры — Кошкидько склонен к контрастам, к соседству противоположностей. Монтажная композиция ему куда ближе, чем причинно-следственная. Клиповое мышление, мышление образными рядами — ближе аналитики и психологии, ближе исповедальной интонации. Череда пластических или музыкальных сцен-зарисовок — ближе, чем любой монолог.
Кошкидько — иронист, но даже у его юмора есть целый комплект форм и воплощений. Меняется интонация смеха — от мягкой иронии до грубой насмешливости, меняется и способ игры. Сегодня во многих ролях Кошкидько есть эксцентрика, но на деле этот прием — далеко не единственный.
В АХЕ Кошкидько увлекся фарсом с насмешливой интонацией и намеренно сгущенными красками. Сотрудничество с Инженерным театром, которое началось в 2013 году и продолжается по сей день, оказало на актера безусловно огромное влияние. Но все же Кошкидько никогда не переносит приемы ахейской игры впрямую на роли в других театрах, не копирует их. Фарс и насмешка на самом-то деле не очень соотносятся с главной темой актера. А последние девять лет комическая игра Кошкидько преисполнена лирики.
Лирика — сквозная тема не только его образов, но и творческого мировосприятия в целом. Присущие актеру интуитивизм и нервная подвижность закономерно приводят к ранимости практически всех героев Кошкидько, в них есть странный надлом, момент драматического несовпадения с миром. Когда в «Жизни за царя» звучит предсмертное письмо народовольца Макара Тетерки родным, не пропадает чувство, что мир обошелся с ним несправедливо. Его бунт воспринимается как жест чуткой души, которая страдает и болеет, видя кругом несправедливость и насилие.
Это же чувство неустроенности позволяет Кошкидько стать частью ансамбля «Лавра» Б. Павловича и «Гекатомбы» Я. Туминой. Душевная боль человека повышенной восприимчивости, проходящая через многие работы Кошкидько, рифмуется и с крестным путем Арсения из «Лавра», и, тем более, с пронзительным рассказом «Гекатомбы» о жизни на пределе.
Корень лиризма Кошкидько — в душевном надломе и конфликтных отношениях с действительностью. Парадоксальным образом этот странный диссонанс отражается даже на его пластике. Казалось бы, актер отлично владеет собственной физикой, и все-таки он неуловимо неловок. Кошкидько утрирует это качество, иронически обыгрывает его. В иронии этой есть что-то нервное, в смехе актера никогда не слышится полного счастья. Что-то нервное и — лирическое.
Ощущение несовпадения с миром дает начало драматическому мировосприятию. Путь Кошкидько к утверждению лирического начала совпадает с возвращением к исключительно драматическим ролям и развитию в них. Кажется, что актерская эволюция Кошкидько — и есть последовательный путь к чисто драматической игре. Ни перформативные эксперименты АХЕ, ни ритуально-клиповый аспект спектаклей LUSORES, ни эксцентрика их обоих не увели Кошкидько от склонности к драме.
Актер редко играет в спектаклях, поставленных по пьесам. Редко играет персонажей-людей. И тем не менее его герои вступают в конфликтные отношения с кем-то или чем-то, претерпевают некие внутренние процессы, развиваются и меняются на протяжении спектакля.
Первая большая и успешная роль Кошкидько — драматическая, главный герой «Зангези» А. Савчука (LUSORES, 2011). Между Зангези и последней премьерой — Афанасием Тоцким в «Бес-Сон-Ницце» А. Янковского (Мастерская АСБ, 2021) — множество экспериментов, находок, опытов и удач. Но на деле актер вернулся к тому, с чего начинал одиннадцать лет назад, — только уже совершенно на другом уровне.
«Зангези» поставлен по одноименной сверхповести Велимира Хлебникова.
Эксперименты поэта со структурой и композицией текста — 21 плоскость, огромное количество героев — Савчука интересуют в меньшей степени. В центр спектакля недвусмысленно поставлена фигура самого Зангези, по сути, все 50 минут действия — это исследование его образа. Весь спектакль — это монолог Зангези, изредка прерываемый девушками-птицами (В. Евтюхина, А. Прохорова) и условными «всеми остальными» в лице самого Савчука.
Зангези—Кошкидько — пророк и визионер, поэт-духовидец, разорванный между тем миром и этим. На протяжении всего спектакля он рассказывает человечеству (буквально граду и миру) об историческом прошлом как о событиях, которым еще только предстоит случиться. Но постепенно у него кончаются силы, и все яснее видны усталость и горечь от осознания неизбежной повторяемости истории — в паузах, в моментах, когда Зангези передает слово другим героям.
В финале Зангези умирает, но только на минуту. Такая театральная смерть и театральный же выход вверх. Герой встает и без тени иронии произносит: «Зангези жив, это была неумная шутка». Но цикл завершился — Зангези отдал всего себя и умер. Другой вопрос, что у него, видимо, не может быть ни настоящей смерти, ни настоящей жизни — все-таки он не совсем человек.
В следующем же сезоне, в 2012 году, Кошкидько играет Энкиду в «Гильгамеше» (часть «1, 2: Двойники»), в образе которого драматическое даже более явно, чем в Зангези. Герой цикла спектаклей по шумеро-аккадскому «Эпосу о Гильгамеше» переживает мощную духовную эволюцию, покидая привычный мир природы и открывая в себе огромную силу, становясь названым братом «равному богам» царю Гильгамешу (В. Гребенщиков).
Линии Гильгамеша и Энкиду последовательно развиваются от начала до конца, складываясь в целостный процесс. Кошкидько не проговаривает впрямую того, что происходит в душе Энкиду, но многое играется при помощи даже одного только медленно меняющегося выражения лица.
Новый этап движения Кошкидько к драматическим ролям яснее всего виден по роли в микроопере «Ры» (2018). «Ры» показательна во многом потому, что в ней Кошкидько — уже не участник более или менее многочисленного ансамбля, в отличие от перформативных экспериментов в АХЕ, многих ролей в Театре «На Литейном», «Слова и дела» и «Жизни за царя» у Ди Капуа. Актерская работа лично Кошкидько в этом спектакле занимает куда большее пространство — и фактическое, и временное, и, главное, смысловое, — чем во всем названном выше.
Спектакль строится по принципу программы вечера в кабаре — череда музыкальных, пластических и «разговорных» номеров. В основе каждого — одно из стихотворений Ры Никоновой (Анны Таршис), поэта, музыканта и перформера родом из авангарда 1960-х.
Микроопера полна эксцентрики и абсурдистского юмора, но чем ближе к финалу, тем больше нарастает трагический градус происходящего.
Сами номера разнообразны. С одной стороны — и смешные, и жуткие эксцентрические сцены-«юморески», с другой — медитативные музыкальные эпизоды. Постепенно второе перекрывает первое, последние 15 минут спектакля — и вовсе полноценный музыкальный трип. Постепенно исчезает поэтическое слово, остается только вокал Кошкидько, а потом уходит и он — все растворяется в тягучем барабанном соло (барабаны — А. Иванов, саунд-дизайн — Г. Прохоров).
Спектакль по поэзии Ры Никоновой — конечно, и о ней самой. Не о поэте, но о ее «лирической героине». Она словно пребывает в диалоге с собой. Диалог этот театрализован, и участвуют в нем два условных персонажа, два лицедея, сыгранные Савчуком и Кошкидько.
Так, в юморесках Савчук — коварный конферансье с дьявольской ухмылкой, а Кошкидько — Пьеро, подавшийся в клоуны. Невысокий и долговязый, белый пиджак и серый, солдат и гусь. Таким дуэтом они разыгрывают вариации диалога солдата и гуся, в случае последнего — предсмертного.
У Савчука — коварно склоненная голова, улыбка чеширского кота и утрированная бодрость. У Кошкидько — подпрыгивающая интонация, тон перманентно удивленного комического дурака.
Холодок абсурдистской иронии не маскируется, гомерический хохот вызывает сама отклеенность ситуации от нормального, по всем критериям. И — фигуры двух актеров, персонажи которых все прекрасно понимают, но с обворожительным нахальством «обманывают» зрителя, придуриваясь, пародируя, играя в игру.
А на другом полюсе гротескной амплитуды — абсолютно серьезные стихотворения Ры Никоновой. Динамита экспрессии в них даже больше, чем в «юморесках», но она совсем другого качества.
Так, музыкальный номер на основе «Смерти» («Звезда убилась…») играется как будто бы на предельном напряжении. Гротеск сохраняется: стихотворение исполнено тем же дуэтом противоположностей — тянущий загробным басом Савчук—Конферансье и взвизгивающий неврастеническим фальцетом Кошкидько—Пьеро. Кажется, что голоса в самом деле выводят свои темы, как смычок виолончели выпиливал бы ноты, то взлетая, то спускаясь по единственной струне, которая того и гляди лопнет.
Юмор кабаре имени Ры трещит по швам, чем дальше — тем отчетливее в стихах слышится трагизм. Чем дальше, тем больше эпизодов Кошкидько играет и вовсе вне комического. В номере «Снег-тень» актер медленно уходит со сцены, беззвучно делая маленький прыжок то влево, то вправо, каждый раз негромко говоря «снег» или «тень». За «снегом» здесь скрывается перевернутое, переигранное «свет». Неведомая сила перебрасывает героя то на один берег, то на другой. И Кошкидько в этот момент абсолютно серьезен и печален.
Поэт здесь не вырывает у неба Божественные откровения, он их просто слышит — такая природа сознания. Ему все это, может, и не нужно, но никуда не денешься.
Поэтому в лакунах неиронической игры Кошкидько есть необъяснимая грусть. Весь карнавал эксцентрики драпирует эту странную тоску, но на деле только обнажает ее. Это тоска клоуна, который растерял все свои маски и остался один — полупрозрачная и абсолютно беззащитная субстанция. Ирония как будто бы защищала и поэта, и ее внутренний голос от обжигающих дуновений какого-то инобытийного ветра — но все-таки бесконечно уворачиваться от него невозможно.
Так в, казалось бы, абсолютно дробном, монтажном по структуре спектакле возникает целостный образ как условие актерского существования. И вполне драматическая фигура, переживающая болезненное столкновение с миром.
Вот только от финального и самого болезненного момента спектакль уводит. С действительно тяжелых болевых точек Кошкидько намеренно соскальзывает в иронию. Или — становится ничего не играющим вокалистом, как это происходит перед финальным барабанным соло А. Иванова.
В совершенно новые условия Кошкидько поставила роль Питера Фройхена в «Живом» (Театральная лаборатория Яны Туминой и Александринский театр, 2021).
Главная и почти единственная роль, большое количество текста. Хотя на деле Кошкидько играет не только Питера Фройхена, но и читателя, взявшегося за дневники известного полярника. Читатель смотрит на слова и не понимает, был ли вообще Фройхен человеком. Спектакль дробится монтажными склейками, Кошкидько то и дело выпрыгивает из роли Фройхена, принимает позицию читателя, который словно бы разыгрывает жизнь исследователя в собственном воображении. Есть и третья ипостась — диджей за пультом, установленным прямо посреди Новой сцены.
Сквозная тема спектакля — победа над смертью. Победа на грани фантастики и абсурда, до смешного. Тумина акцентирует этот мотив, вводя в спектакль второго актера, Александра Балсанова. Горловое пение Балсанова приносит на сцену не только обобщенный дух севера, но и саму смерть, с которой непрерывно борется Фройхен.
Фройхен побеждает смерть трижды — в одиночку пережив полярную зиму, вылечившись от испанки и выбравшись из-под толстого слоя льда.
Отношение к ней меняется. После окончания полярной зимы, когда к Фройхену приходит осознание, что ему удалось не сойти с ума, не умереть от голода и не дать волкам себя съесть, наступает момент чуть ли не катарсического взрыва. Проснувшаяся в герое любовь к жизни даже в слова не укладывается. Кошкидько, включив с пульта свой же трек «Монтана», вскакивает на высокий помост, поднятый в центре площадки, и с минуту отплясывает: иронически, но все-таки торжествующе.
Роль требует постоянной смены точек зрения — то незадачливый читатель, то плод его воображения. Попытка понимания документа, чьей-то реальной, но невероятной жизни обречена на провал — «Живой», во многом, и об этом. Жизнь Питера Фройхена невозможно примерить на себя, ее можно только воспринять отстраненно — как это и делает читатель.
Роль идеально вписывается в тот путь к драматической игре, по которому, как сегодня видно, движется Кошкидько. Но все же она требует от актера выхода на новый этап — более органичного процессуального существования, способности долго пребывать в монологе.
Собственно, «новый этап» наступил внезапно. В ноябре 2021 года в присутствии от силы сорока зрителей Кошкидько принял участие в читке пьесы Клима «Бес-Сон-Ницца» в рамках проекта «8 из числа 7, или Семь дней с „Идиотом"» А. Янковского. Вполне возможно, что в первый и последний раз.
В основе пьесы — история второстепенного героя «Идиота» Афанасия Тоцкого. Тоцкий находится в лечебнице для умалишенных в Ницце, мучается от бессонницы и мало-помалу впадает в тягучий и болезненный монолог.
С героем Достоевского персонаж Клима имеет мало общего. Тоцкий предстает как самостоятельная, цельная фигура. Следуя за текстом пьесы, Кошкидько создает измученного душевной болью героя, чудака и лирика, странного человека, у которого как будто бы нет кожи, нет защитного барьера.
Два с половиной часа Кошкидько находится в непрерывном монологе. Ноль комического, ноль шансов свернуть с прямого как рельс маршрута, в конце которого ждет пропасть.
Актер наполняет Тоцкого чем-то глубоко личным — и появляется тот самый чудак, растерянный и ранимый лирик-лицедей, который уже открывал свое настоящее лицо в «Ры». Вот только здесь спасательный круг иронии появиться не может и не должен. Янковский ведет Кошкидько к полному раскрытию точки мучительной боли.
Ближе к финалу пьесы возникает едва ли не самостоятельная история о родителях Тоцкого, которых он неожиданно узнал в попрошайках на парковой скамейке. И если мать действительно не помнит сына, то отец его все-таки признает — но просит дать милостыню и уйти, чтобы не разрушать их счастливую теперь жизнь.
И в этой секунде до срыва, в экстремальной ситуации, Кошкидько вдруг играет невыносимую боль Тоцкого во всех подробностях и оттенках. Голос становится тише; интонация, которая до сих пор все-таки была театральной, отчасти декламационной, раскладывается на неуловимо тонкие нюансы. Тоцкий как персонаж обнаруживает универсальность. Встреча героя с родителями на деле — встреча с небытием, вернее, с бытием в самом что ни на есть подлинном проявлении.
Экстремальный шаг дает в результате фантастический уровень содержательной экспрессии. Тоцкий в финале монолога становится больше самого себя и вдруг видит тот ослепительный свет, ту правду о мироздании, от которой до сих пор отделяли слои атмосферы и защитные механизмы психики.
Сегодня последняя роль кажется только штрихом к портрету. Но именно «Бес-Сон-Ницца» окончательно утверждает в Кошкидько драматического актера.
Через образ Тоцкого актер открывает в себе новую ипостась: чудак-лирик становится лицом в полном смысле слова действующим. Он не может ничего изменить, но все-таки может совершить волевой жест и отпустить себя в свободное падение.
Может быть, это самоубийство. Но скорее — экзистенциальный выбор, силы на совершение которого вдруг обнаруживает в себе самый неустойчивый и ранимый герой.
Первая половина февраля 2022 г.