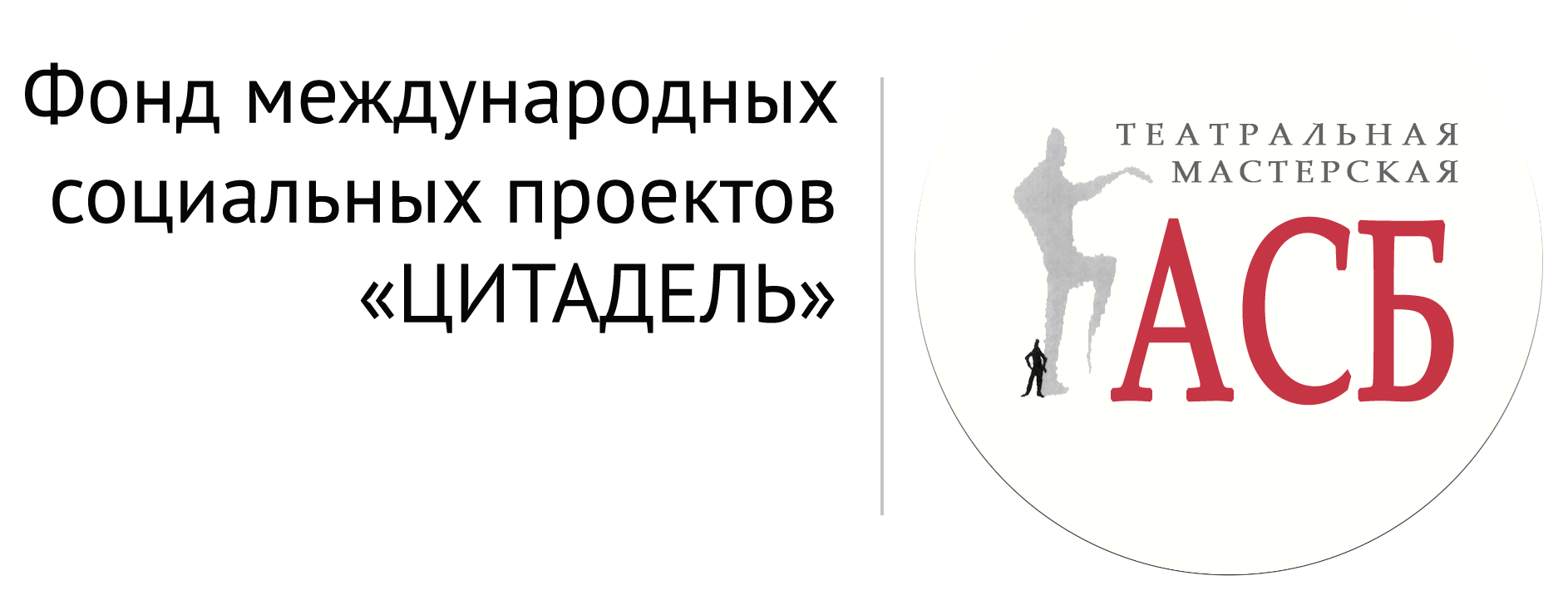«Евгений Онегин» Алексея Янковского в Открытом пространстве.
Игорь Вдовенко, кандидат искусствоведения, театровед, культуролог, старший научный сотрудник сектора актуальных проблем современной художественной культуры Российского института истории искусств (РИИИ).
Игорь Вдовенко, кандидат искусствоведения, театровед, культуролог, старший научный сотрудник сектора актуальных проблем современной художественной культуры Российского института истории искусств (РИИИ).
Некрасова начинает: Мой (точка). Дядя (точка). Самых (точка). Честных (точка)… – примерно так некогда (в самом начале 2000-х) пушкинский текст звучал у Васильева в Моцарте и Сальери (и затем в Пушкинском утреннике). Васильев, помнится, называл это работой с твердой интонацией. И подчеркивал, что в сочетании с инверсией (базовой для «игрового театра») твердая интонация служит делу построения вертикали: «Когда актер говорит в твердой интонации, слова будто падают вниз — твердый, пульсирующий звук атакующего слова почти физически "пробивает" канал, делает канал прозрачным и в землю уходящим. Когда актер пользуется правилом инверсии […], инверсия открывает канал наверх, исполняя работу вертикали или обязанности лестницы Иакова».
Впрочем, все это было настолько давно, что даже уже как-то и не верится.
Последним же спектаклем Васильева, который я видел, был «Старик и море». Жанр которого был предельно откровенно обозначен на афише как «читка и перформанс». И правда: Демидова просто сидела перед нами, и просто читала текст. А за ней – на заднике – собственно и происходил «перформанс» (море, по которому плыл старик вздымалось и опадало). И в сущности (как спектакль) все это мне, честно говоря, как-то не особо бы и понравилось, если бы не сама эта изначально предупреждающая надпись на афише - как бы соединяющая воедино происходящее в повести, в спектакле и, собственно, в жизни. Не знаю даже как сказать, но здесь (в самом этом определении) была какая-то совершенно обезоруживающая правда. И о театре, и нас, и о самом себе. Потому что все, что в результате (и у Васильева, и у всех нас) сегодня осталось от театра…
Васильеву ведь тоже когда-то, вероятно, казалось, что он смог ухватить бога за бороду, поймать того самого гигантского голубого марлина, который станет оправданием всего. Т.е. собственно тем театром, или точнее – Театром (с большой буквы), ради которого только и стоит пускаться в это бесконечное плавание. Жизнь же, как обычно, все расставила на свои места. И от этого некогда прекрасного Театра (как бы обещавшего праведникам бесконечную эдемскую трапезу - невиданное пиршество духа) остался лишь хвост и хребет: «читка и перформанс» (все остальное съели – как говорится – «в процессе»).
Нынешний спектакль Янковского тоже – читка. И тоже (своего рода) – перформанс. Но только направление движения здесь, как мне кажется – обратное. У Васильева «читка и перформанс» это, собственно, все, что остается от театра (тот самый скелет, с которым старик возвращается домой после долгих заграничных плаваний). Янковский же как бы наоборот, не заканчивает, а начинает с той ситуации, в которой от театра уже не осталось ничего. Но движется он в обратную сторону. Не от театра к читке, а от читки к театру. Или точнее к отысканию театра. Театра, как чего-то, что способно вернуть утраченные смыслы (причем смыслы вообще, не именно и только театральные). И в этом смысле то, что текстом сегодняшнего спектакля становится именно Евгений Онегин (т.е., в сущности, главный, корневой текст русской культуры), на мой взгляд – показательно. Семь с половиной часов с двумя антрактами. Весь роман за один день. И главное здесь, конечно не то, что «весь» (роман), а то, что (весь) «день». День как бы вырванный из течения обыденной жизни. Посвященный чему-то, что вечно куда-то откладывается, пусть даже и не сознательно (у современных буддистов что-то подобное, кажется, называется ретрит, и практикующему мирянину рекомендуется пусть изредка, пусть даже раз в год, но уходить на него от мира пусть даже и на один день).
Как, собственно, все это сделано? Одна актриса (Надежда Некрасова), читающая практически весь текст романа. Один актер (Александр Кошкидько), присутствующий в одном с ней пространстве с самого начала, но подключающийся к чтению лишь в середине второго действия. Прислоненное на заднем плане к стене зеркало (в котором будут периодически проявляться какие-то смутные образы). И бесконечно (практически без остановок, без отыгрываний, без чтения по ролям) звучащий текст. По большей части на фоне музыки. Но иногда и наоборот – в звенящей тишине. Собственно же происходящее в романе не играется, не иллюстрируется, не изображается, но возникает в спектакле (его, так сказать, перформативном слое) в виде странной игры света и дыма (периодически заполняющего сцену и почти скрывающего актеров). Именно эта игра (разворачивающаяся на фоне звучания текста) в какой-то момент становится своего рода внутренним экраном, на котором и проявляются образы. И их наблюдение (как наблюдение за облаками) – медитативное, в сущности, занятие. Настраивающее на особый лад.
Странные мысли начинают посещать тебя в процессе (и еще больше – вдогонку, по выходу из зала). Мысли как бы не приходящие в обыденной реальности в голову (потому что о чем здесь думать, и так ведь все ясно). Например: А о чем собственно Евгений Онегин? (ну, кроме того, что это «энциклопедия русской жизни» и «история лишнего человека» и проч.). Современным школьникам, в момент натаскивания на ЕГ, объясняют основную коллизию романа буквально на уровне пословицы: «что имеем не храним, потерявши плачем» (вот, мол, Онегин Татьяну тогда, когда она ему призналась, отверг, ну, соответственно и получил). В то время как в реальности все обстоит ровно наоборот. Потому что именно после того, как (или точнее: в результате того как) он ее отвергает, она и превращается в ту, которую он в состоянии полюбить. Т.е. иначе говоря: эта (новая) Татьяна вовсе не равна той. Которую он «потерял», а рождена именно самим этим (его) действием (ну, и, естественно, тем переживанием, которое это действие в ней производит). Как было когда-то написано на плакате, укрепленном над кроватью одной моей институтской знакомой: «меньшими усилиями достичь того же результата нельзя».
В сущности, пушкинский роман – вариация истории Пигмалиона и Галатеи. Причем именно русская вариация. Вся целиком построенная на невозможности. (Невозможно необрести, не потеряв). Потому как той Татьяны (которую Онегин будет добиваться в конце романа) в тот момент, когда она ему пишет свое извечное «я вас люблю, чего же более…», еще нет. А та, которая в конце, ничего подобного уже никому никогда не напишет. И дело здесь вовсе не в том, что «чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». А в том, что для Татьяны (т.е. именно для Татьяны, той, которую он способен полюбить) эта любовь уже невозможна.
Онегин же (как русский человек) искренне всей душой способен полюбить лишь невозможное. И все усилия своей жизни он как раз и направляет на то, чтобы это невозможное произвести.
Или о Ленском: я помню, школьником я никак не мог понять, почему он его убивает (и почему, и зачем, и как вообще такое возможно), а тут вдруг (причем это даже не именно про Онегина, а вообще – и про Печорина с Грушницким, и про Безухова с Долоховым, и вообще про всю эту «дворянскую культуру», про которую я, кажется, и у Лотмана когда-то читал, и у Набокова в комментариях к роману, но никогда не понимал) – это же, в сущности, то же самое, что Гаспаров в «Записях и выписках» про Эдипа говорит: «Читатели нового времени удивлялись: почему Эдип, получив пророчество, что убьёт отца, не стал избегать любого убийства или хотя бы столкновения с любым стариком, а вместо этого сразу подрался с незнакомым Лаием? Ответ: просто в Греции невозможно было прожить жизнь, никого не убивши, хотя бы ополченцем в будничной межевой войне».
И, разумеется, ни Греция, ни «прогресс» (что бы ни думал сам Гаспаров) здесь не причем. Речь здесь идет, собственно говоря, про свободного человека. Или (если угодно) про аристократию. Для которой не нужно искать особой причины. Это человеку третьего сословия (как бы претендующему на то, чтобы занять место второго) она нужна. И даже обязательна. Для него вопрос «тварь я дрожащая или право имею?» - первостепенен. Перед Онегиным такой вопрос вообще не стоит. Равно как и никакие особые душевные терзания его по этому поводу не посещают. Так же как и Эдипа (ну, так получилось, что ж, значит - судьба).
Ну, и про «лишнего человека» (про это я вообще никогда не задумывался, потому что мне и ребенком-то казалось, что нет смысла на это тратить время) но тут вдруг, как-то мне окончательно стало понятно, что это «в каком вообще смысле» - лишний? Лишний же это как бы тот, который не для чего не нужен, которого можно как бы безболезненно удалить и ничего не произойдет. А Онегин? Если его удалить из романа (и я даже не именно сюжет имею ввиду, а собственно жизнь, которая как бы стоит за всем этим сюжетом). Не будь Онегина (или таких как он – как бы «лишних») так это и Ленский в живых останется, и Татьяна Татьяной не станет (ну, т.е. той Татьяной, которая…). И что в результате от всего этого останется? Т.е., еще раз повторюсь, не от сюжета, а от романа (который, как известно – энциклопедия русской жизни). И, следовательно, от самой это (именно русской) жизни, России. Какая-нибудь, прости Господи, Германия? (из которой разного рода ленские бесконечно везут сюда «учености плоды, вольнолюбивые мечты и проч.», и если их разного рода онегины вовремя не остановят, так ведь страшно подумать, что может приключиться). – Шучу, разумеется. Но здесь (для меня) важно, что сама эта шутка у меня возникает именно как следствие вхождения в пространство, возникающее в спектакле. И (опять же – для меня) не менее важно, что она (так же) именно возникает (и именно у меня самого, а не в «режиссерской концепции» или актерской «интерпретации»).
Спектакль не настаивает, не интерпретирует, и даже не рассказывает, но – дает возможность проявиться собственно пушкинскому тексту, его смыслам (разумеется – индивидуальным, собственным для каждого сидящего в зале, но в то же время, как мне кажется, не произвольным). И – конечно – то, что мы видели 23 декабря – лишь первый шаг. Первое знакомство спектакля со зрителем. Что с ним будет дальше, в кого он вырастет (и зритель и спектакль), пока не ясно. Но то, что возможность вырасти во что-то значительное у него есть, уже очевидно.
Впрочем, все это было настолько давно, что даже уже как-то и не верится.
Последним же спектаклем Васильева, который я видел, был «Старик и море». Жанр которого был предельно откровенно обозначен на афише как «читка и перформанс». И правда: Демидова просто сидела перед нами, и просто читала текст. А за ней – на заднике – собственно и происходил «перформанс» (море, по которому плыл старик вздымалось и опадало). И в сущности (как спектакль) все это мне, честно говоря, как-то не особо бы и понравилось, если бы не сама эта изначально предупреждающая надпись на афише - как бы соединяющая воедино происходящее в повести, в спектакле и, собственно, в жизни. Не знаю даже как сказать, но здесь (в самом этом определении) была какая-то совершенно обезоруживающая правда. И о театре, и нас, и о самом себе. Потому что все, что в результате (и у Васильева, и у всех нас) сегодня осталось от театра…
Васильеву ведь тоже когда-то, вероятно, казалось, что он смог ухватить бога за бороду, поймать того самого гигантского голубого марлина, который станет оправданием всего. Т.е. собственно тем театром, или точнее – Театром (с большой буквы), ради которого только и стоит пускаться в это бесконечное плавание. Жизнь же, как обычно, все расставила на свои места. И от этого некогда прекрасного Театра (как бы обещавшего праведникам бесконечную эдемскую трапезу - невиданное пиршество духа) остался лишь хвост и хребет: «читка и перформанс» (все остальное съели – как говорится – «в процессе»).
Нынешний спектакль Янковского тоже – читка. И тоже (своего рода) – перформанс. Но только направление движения здесь, как мне кажется – обратное. У Васильева «читка и перформанс» это, собственно, все, что остается от театра (тот самый скелет, с которым старик возвращается домой после долгих заграничных плаваний). Янковский же как бы наоборот, не заканчивает, а начинает с той ситуации, в которой от театра уже не осталось ничего. Но движется он в обратную сторону. Не от театра к читке, а от читки к театру. Или точнее к отысканию театра. Театра, как чего-то, что способно вернуть утраченные смыслы (причем смыслы вообще, не именно и только театральные). И в этом смысле то, что текстом сегодняшнего спектакля становится именно Евгений Онегин (т.е., в сущности, главный, корневой текст русской культуры), на мой взгляд – показательно. Семь с половиной часов с двумя антрактами. Весь роман за один день. И главное здесь, конечно не то, что «весь» (роман), а то, что (весь) «день». День как бы вырванный из течения обыденной жизни. Посвященный чему-то, что вечно куда-то откладывается, пусть даже и не сознательно (у современных буддистов что-то подобное, кажется, называется ретрит, и практикующему мирянину рекомендуется пусть изредка, пусть даже раз в год, но уходить на него от мира пусть даже и на один день).
Как, собственно, все это сделано? Одна актриса (Надежда Некрасова), читающая практически весь текст романа. Один актер (Александр Кошкидько), присутствующий в одном с ней пространстве с самого начала, но подключающийся к чтению лишь в середине второго действия. Прислоненное на заднем плане к стене зеркало (в котором будут периодически проявляться какие-то смутные образы). И бесконечно (практически без остановок, без отыгрываний, без чтения по ролям) звучащий текст. По большей части на фоне музыки. Но иногда и наоборот – в звенящей тишине. Собственно же происходящее в романе не играется, не иллюстрируется, не изображается, но возникает в спектакле (его, так сказать, перформативном слое) в виде странной игры света и дыма (периодически заполняющего сцену и почти скрывающего актеров). Именно эта игра (разворачивающаяся на фоне звучания текста) в какой-то момент становится своего рода внутренним экраном, на котором и проявляются образы. И их наблюдение (как наблюдение за облаками) – медитативное, в сущности, занятие. Настраивающее на особый лад.
Странные мысли начинают посещать тебя в процессе (и еще больше – вдогонку, по выходу из зала). Мысли как бы не приходящие в обыденной реальности в голову (потому что о чем здесь думать, и так ведь все ясно). Например: А о чем собственно Евгений Онегин? (ну, кроме того, что это «энциклопедия русской жизни» и «история лишнего человека» и проч.). Современным школьникам, в момент натаскивания на ЕГ, объясняют основную коллизию романа буквально на уровне пословицы: «что имеем не храним, потерявши плачем» (вот, мол, Онегин Татьяну тогда, когда она ему призналась, отверг, ну, соответственно и получил). В то время как в реальности все обстоит ровно наоборот. Потому что именно после того, как (или точнее: в результате того как) он ее отвергает, она и превращается в ту, которую он в состоянии полюбить. Т.е. иначе говоря: эта (новая) Татьяна вовсе не равна той. Которую он «потерял», а рождена именно самим этим (его) действием (ну, и, естественно, тем переживанием, которое это действие в ней производит). Как было когда-то написано на плакате, укрепленном над кроватью одной моей институтской знакомой: «меньшими усилиями достичь того же результата нельзя».
В сущности, пушкинский роман – вариация истории Пигмалиона и Галатеи. Причем именно русская вариация. Вся целиком построенная на невозможности. (Невозможно необрести, не потеряв). Потому как той Татьяны (которую Онегин будет добиваться в конце романа) в тот момент, когда она ему пишет свое извечное «я вас люблю, чего же более…», еще нет. А та, которая в конце, ничего подобного уже никому никогда не напишет. И дело здесь вовсе не в том, что «чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей». А в том, что для Татьяны (т.е. именно для Татьяны, той, которую он способен полюбить) эта любовь уже невозможна.
Онегин же (как русский человек) искренне всей душой способен полюбить лишь невозможное. И все усилия своей жизни он как раз и направляет на то, чтобы это невозможное произвести.
Или о Ленском: я помню, школьником я никак не мог понять, почему он его убивает (и почему, и зачем, и как вообще такое возможно), а тут вдруг (причем это даже не именно про Онегина, а вообще – и про Печорина с Грушницким, и про Безухова с Долоховым, и вообще про всю эту «дворянскую культуру», про которую я, кажется, и у Лотмана когда-то читал, и у Набокова в комментариях к роману, но никогда не понимал) – это же, в сущности, то же самое, что Гаспаров в «Записях и выписках» про Эдипа говорит: «Читатели нового времени удивлялись: почему Эдип, получив пророчество, что убьёт отца, не стал избегать любого убийства или хотя бы столкновения с любым стариком, а вместо этого сразу подрался с незнакомым Лаием? Ответ: просто в Греции невозможно было прожить жизнь, никого не убивши, хотя бы ополченцем в будничной межевой войне».
И, разумеется, ни Греция, ни «прогресс» (что бы ни думал сам Гаспаров) здесь не причем. Речь здесь идет, собственно говоря, про свободного человека. Или (если угодно) про аристократию. Для которой не нужно искать особой причины. Это человеку третьего сословия (как бы претендующему на то, чтобы занять место второго) она нужна. И даже обязательна. Для него вопрос «тварь я дрожащая или право имею?» - первостепенен. Перед Онегиным такой вопрос вообще не стоит. Равно как и никакие особые душевные терзания его по этому поводу не посещают. Так же как и Эдипа (ну, так получилось, что ж, значит - судьба).
Ну, и про «лишнего человека» (про это я вообще никогда не задумывался, потому что мне и ребенком-то казалось, что нет смысла на это тратить время) но тут вдруг, как-то мне окончательно стало понятно, что это «в каком вообще смысле» - лишний? Лишний же это как бы тот, который не для чего не нужен, которого можно как бы безболезненно удалить и ничего не произойдет. А Онегин? Если его удалить из романа (и я даже не именно сюжет имею ввиду, а собственно жизнь, которая как бы стоит за всем этим сюжетом). Не будь Онегина (или таких как он – как бы «лишних») так это и Ленский в живых останется, и Татьяна Татьяной не станет (ну, т.е. той Татьяной, которая…). И что в результате от всего этого останется? Т.е., еще раз повторюсь, не от сюжета, а от романа (который, как известно – энциклопедия русской жизни). И, следовательно, от самой это (именно русской) жизни, России. Какая-нибудь, прости Господи, Германия? (из которой разного рода ленские бесконечно везут сюда «учености плоды, вольнолюбивые мечты и проч.», и если их разного рода онегины вовремя не остановят, так ведь страшно подумать, что может приключиться). – Шучу, разумеется. Но здесь (для меня) важно, что сама эта шутка у меня возникает именно как следствие вхождения в пространство, возникающее в спектакле. И (опять же – для меня) не менее важно, что она (так же) именно возникает (и именно у меня самого, а не в «режиссерской концепции» или актерской «интерпретации»).
Спектакль не настаивает, не интерпретирует, и даже не рассказывает, но – дает возможность проявиться собственно пушкинскому тексту, его смыслам (разумеется – индивидуальным, собственным для каждого сидящего в зале, но в то же время, как мне кажется, не произвольным). И – конечно – то, что мы видели 23 декабря – лишь первый шаг. Первое знакомство спектакля со зрителем. Что с ним будет дальше, в кого он вырастет (и зритель и спектакль), пока не ясно. Но то, что возможность вырасти во что-то значительное у него есть, уже очевидно.