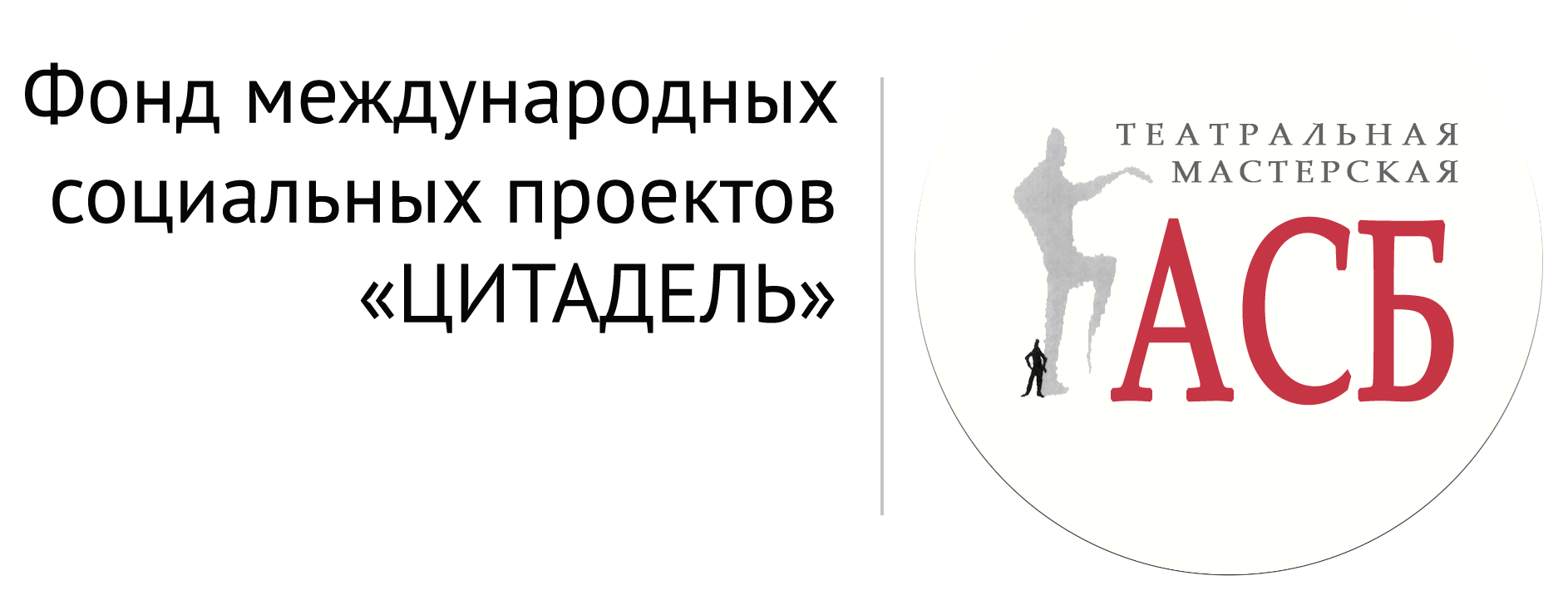Репертуар

Спектакль "Машина едет к морю"

КОМИЧЕСКОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ
А. Бьерклунд. «Машина едет к морю». Театральная мастерская «АСБ», театр «Особняк».
Постановка и оформление Алексея Янковского
А. Бьерклунд. «Машина едет к морю». Театральная мастерская «АСБ», театр «Особняк».
Постановка и оформление Алексея Янковского
Название спектакля Алексея Янковского, как и пьесы Алекса (фон) Бьерклунда, содержит глагол движения, но героев мы застаем на конечной остановке их жизни, откуда, кажется, никакого пути нет и быть не может. Эти трое уже во всех смыслах «приехали». Ослепший старик, его взрослый внук-аутист Виктор и по доброте душевной подкармливающий двух беспомощных инвалидов дворник Борис влачат жалкое, внешне бессмысленное существование, ограниченное стенами квартиры. В их мире все монотонно повторяется и ничего не меняется: Виктор молча рисует что-то на листе бумаги, Старик громко философствует, потому что выпил вина, в определенный час дня обязательно приходит Борис и приносит тушеную капусту или вареные яйца. Если он опаздывает хоть на несколько минут, Виктор тревожится, кружит около входной двери и кричит. Регулярность приемов пищи отмеряет отрезки времени, которое иначе бы просто замерло, застыло — для слепца в вечной тьме нет ни закатов, ни рассветов, а внук от окружающего мира отгородился прозрачной, но непроницаемой стеной.
Пьеса открывается ремаркой, скупо описывающей убогий быт убогих героев. Но режиссер о бытовом правдоподобии, разумеется, не думает — его метафизический театр строится на других основаниях. Да и пьеса недвусмысленно намекает на то, что автор (по профессии — не только драматург, но и актер, под именем Александр Сергеев работающий в екатеринбургской «Волхонке», где Янковский поставил «Машину…» пару лет назад) читал Беккета и других абсурдистов. Несмотря на узнаваемость житейской ситуации — больные маргиналы, забытые социумом, — и троица героев, и их взаимоотношения с миром воспринимаются метафорически, не впрямую.
Камерное пространство театра «Особняк» ничем не декорировано, никаких особых сигналов к началу действия, кроме просьбы администратора выключить мобильные телефоны, не дается. В глубине площадки как-то очень незаметно возникает Алиса Олейник в мешковатой, словно с чужого плеча, мужской одежде — рубашка велика, толстые спортивные штаны подпоясаны веревкой, чтобы не свалились.
Длинные светлые волнистые волосы актрисы приглажены и заколоты на затылке. Олейник усаживается на низкий стул, кладет на колени подушку, чтобы было удобнее рисовать, выбирает карандаши, вытаскивая их из целлофанового пакета. Это простейшее дело — подбор карандаша или шариковой ручки нужного цвета — завораживает, настолько сосредоточена на нем актриса, настолько погружена она в это обычное занятие. В это время Дмитрий Поднозов, одетый так, как может быть одет Дмитрий Поднозов в жизни, прохаживается по площадке перед зрителями, время от времени мерно и несколько торжественно выкрикивая: «Виктор! Ты здесь? Где же ты, Виктор?»
Д. Поднозов, А. Хропов, А. Олейник в спектакле. Фото А. Осташвер
Такое начало спектакля создает у зрителя смутное ощущение дискомфорта, хотя абсолютно никакой агрессии от сцены не исходит. Просто Олейник сидит и рисует, не обращая никакого внимания на то, что Поднозов ходит туда-сюда и громогласно взывает к пустоте. Зритель не обязан сразу догадаться, что Дед ничего не видит (актер никак внешне не обозначает ни слепоту героя, ни его возраст), поэтому сцена воспринимается каким-то неясным, интригующим прологом. И тут в ход идет музыка — сильнейший элемент управления зрительским восприятием. Фрагмент саундтрека к фильму «Жилец» Романа Полански, длящийся примерно две с половиной минуты, проигрывается снова и снова, запись закольцована, и эти повторы вводят слушателя в подобие транса, укачивают на волнах звуков. Несмотря на удивительную красоту и мелодичность музыкального отрывка, вкрадывается непонятное беспокойство, даже готовы закипеть беспричинные слезы. Такой сильный эффект производит, я думаю, неземное звучание «стеклянной гармоники» — редкого инструмента, состоящего из стеклянных полусфер разного размера, нанизанных на вращающуюся ось. Французскому композитору Филиппу Сарду пришло в голову использовать стеклянную гармонику в своей музыке к психологическому триллеру Полански; наверное, он знал о том, что в прошлые века считалось, будто странный, льдистый, зыбкий звук этого инструмента чрезмерно воздействует на слушателей, пугает животных, вызывает преждевременные роды и приводит к помутнению рассудка… Такие страшные вещи ни с кем в нашем зале не происходили, однако нежное пение стекла, растворяясь в воздухе, властно проникало в душу.
Под музыку Сарда Старик рассуждает об отсутствии контакта с миром, требует ответа от внука, хоть какой-то его реакции. Вдруг Виктор неожиданно спокойно произносит: «Я рисую». И потом порой безэмоционально роняет реплики о том, что именно он рисует (солнце, дерево, облако). Он явно слышит голос деда, но еще долго непонятно — значат ли для него что-то эти слова. Ощущение, что герои не переговариваются в маленьком замкнутом пространстве, а посылают сигналы с соседних островов в океане или даже — с разных планет. Трагически-возвышенные переливы музыки подсказывают эти космические ассоциации. А ведь при всем том персонажи — не менее комические, чем космические!
У актеров в спектакле — особого рода партнерство, ведь реального диалога героев вроде бы долго нет, но есть тонкий контакт исполнителей, их непрямые реакции видны. Они ведут параллельно свои темы, существуют в разных ритмах, выявляют противоположности. Виктор с его кротким, спокойным, светлым лицом терпеливо чиркает по листу бумаги, тщательно заштриховывает его, скрипит ручкой. Старик беспрестанно (но не суетливо) двигается, наливает в бокал вино и пьет, ставит «на повестку дня» вечные вопросы, как бы пытаясь разбудить, «растормошить» сознание внука. Он с издевательской торжественностью подводит горькие итоги жизни, делает неутешительные выводы о бытии и о себе в нем. К моменту появления третьего персонажа сосуществование двух первых становится почти невыносимым для зрителя, изнуряющим (так может измотать слушателя бесконечное рондо — например, «Болеро» Равеля).
Борис приносит еду (рефреном звучит у Виктора—Олейник требовательное, отрывистое, омузыкаленное словосочетание «тушеная капуста», этак: «тушонннная капУста»), а актер Анатолий Хропов приносит новую интонацию, новый ритм. Сначала кажется, что его герой явился посланцем из мира «нормальных» людей, но быстро понимаешь — он не менее странный, чудной. Герой фантастически заторможен. Он невозмутимо стоит и ждет, ждет, пока Виктор ответит ему, паузы между вопросом и невозникающим ответом длятся, растягиваются. Эти зоны молчания и ожидания слова переживаются зрителем в зале как жажда глотка — воды ли, воздуха ли.
Д. Поднозов, А. Хропов в спектакле. Фото А. Осташвер
Старик еще до прихода Бориса выводит для Виктора афористичную формулу единства противоположностей: «Ты все видишь, но не чувствуешь. Я все чувствую, но ничего не вижу. Мы дополняем друг друга». Третий герой должен равновесие поколебать: он может видеть и чувствовать, но для него это не имеет значения. Борис—Хропов пытается рассуждать логически, подвести житейские обоснования под странные идеи двух своих подопечных — и тем самым продемонстрировать их полную нежизнеспособность. Например, Виктор, оказывается, рисует машину, которая едет к морю (это удается вытянуть из него с неимоверным трудом). За рулем — старик, потому что остальные не умеют водить, а дедушка слепой, ему все равно… Дворник негодует, увещевает, отрезвляет, а Старик подначивает Бориса, упрямо утверждая, что он такой же никому не нужный идиот, как они, Виктор выводит его из себя своими нелепыми страхами — он боится утонуть в раковине и потому не моет посуду… И вся эта комически-абсурдная перебранка приводит к взрыву: Борис наносит Старику удар в челюсть, и Поднозов театрально, а вернее — по-клоунски смешно, складывая в три приема свою длинную фигуру, валится на площадку. Тишина, только жалобные ритмичные постанывания перепуганного Виктора…
Метафизическая клоунада — так я рискнула бы определить стиль игры в этом спектакле. Им приходится точно вымерять пропорции — не хочется вовсе пожертвовать выразительностью ради тонкости, с одной стороны, а с другой — нельзя превратить все в откровенную буффонаду, пусть и философическую. Но правда, очень смешно, когда долговязый Дед, возвышаясь над миниатюрным внуком, с едкой иронией говорит ему: «Ты же здоровый лоб!» А плотный, основательно стоящий на земле Борис, стараясь быть спокойным, при этом все время транслирует невероятную растерянность человека, не знающего, как справиться с отчаянием, обидой на жизнь. Все эти диссонансы, контрасты — драматичны, но и исполнены особого юмора, не злого и колкого, а мудрого, высокого.
Алиса Олейник играет Виктора так, что мы видим в герое черты особого ребенка, как будто актриса наблюдала за тем, как ведут себя люди с расстройствами аутистического спектра, но ее существование на сцене — не фотографический снимок реальности. Да, Виктор может издавать резкие крики, как рассерженный сиамский кот, может повторять, как заведенный, одно и то же («Тушеная капуста», «Машина едет», «Я боюсь»), может внезапно отворачиваться и механически рисовать на первой попавшейся под руку поверхности — ботинке Бориса или на стене (уходя в это занятие, он защищается от окружающего мира). Но все эти черты проявлены актрисой с такой грацией, так нежно — и в то же время с такой отточенной выразительностью, что Виктор не вызывает ни нашего нездорового любопытства, ни неприязни, ни жалости. Ангельская внешность Олейник в сочетании со странными проявлениями ее героя производят очень сильное впечатление на зрителя, заставляют его напряженно следить за Виктором, боясь пропустить хоть что-то. Актриса, безусловно, фокусирует внимание, но рисунок спектакля выполнен так, что публика при этом не теряет из виду ее партнеров — построена амплитуда сгущений и разрядок действия.
Концентрация комического в спектакле — сцена Бориса, Виктора и лежащего на полу Деда. Текста здесь совсем немного, но актеры растягивают эпизод многочисленными гэгами, к тому же делают все невероятно замедленно, что и смешит, и щекочет зрительские нервы. Виктор, например, не желая прикасаться к Старику, потому что от него воняет, сначала старательно накрывает его ноги кухонными полотенцами, потом долго-долго трясет рукавами, чтобы взяться за деда не голой рукой, а через рубашку, а заодно и заткнуть себе нос. Наконец, он наклоняется, но тут из его нагрудного кармашка вываливается карандаш — что делать, как быть?.. Новый виток комических приспособлений… Когда Старика перекладывают, он задевает рукой стоящую на полу бутылку, и Поднозов всегда ловким движением ее подхватывает и ставит на место, несмотря на то, что его герой находится в глубоком обмороке! В общем, здесь целый поток крошечных лацци, не жирных и ярких, а словно прорисованных острым цветным карандашом. Как будто тем, что в руке у Виктора, который рисует машину и синее море. Машина едет быстро, и в машине, конечно, он сам, его дед и Борис.
…Финальная часть спектакля условно отделена возникающим во второй раз в эфире чужеродным голосом диктора из теленовостей. Euronews, как обычно, сообщает о катастрофических событиях, о терактах, землетрясениях, авариях, наводнениях. Новости проникают из внешнего мира, который отверг героев Бьерклунда как ненужных, несущественных, неинтересных существ. Или, может быть, сами персонажи отвергли этот пугающий, жестокий, адски холодный мир, спрятались от него, предпочтя добровольное заточение? Дед ведь даже не разрешает открывать окна, боясь «мутировать». Но что-то меняется, когда происходит кризис, когда между тремя героями возникает не формальная, словесная, а очень конкретная связь, возможность контакта, даже физического. И вот старик «оживает» и решается поведать свой план побега, план спасения. На машине, которая, оказывается, у него есть, им — всем троим — надо уехать к морю. Там им будет хорошо.
В бормотании телевизора можно расслышать еще один сигнал зрителю: закадровый голос объявляет начало фильма Джима Джармуша «Более странно, чем в раю». Для кого-то фраза прозвучит как намек на происходящее (тут, в «Особняке», действительно очень странно), а для тех, кто помнит этот ранний черно-белый фильм знаменитого режиссера, сработает невольная ассоциация: у Джармуша трое героев-эмигрантов, живущих бессмысленной, бесперспективной жизнью чужаков, изгоев в Америке, неожиданно пускаются в путь — на машине едут к морю. Поездка оканчивается ничем, но реальность размывается, события вообще не важны, а вот возникающее чувство возможной человеческой близости — важно. Так и здесь.
Д. Поднозов, А. Олейник в спектакле. Фото А. Осташвер
Когда видишь, что Виктор совсем незаметно, тихо выбрался из своей прозрачной воображаемой клетки, расслабился, разлегся на полу, положив ногу на стульчик и покачивая ею, становится как-то тепло и нестрашно. И оказывается в финале, что он не только внимательно слушал, но и истово, со всей доверчивостью ребенка поверил в рассказ деда о путешествии. Он собрался, оделся для дальнего похода. «Я готов. А вы?»
Никто из зрителей, я думаю, не забудет прекрасное, вдохновенное лицо Алисы Олейник и ее жест — актриса освобождает волосы из пучка на затылке и поднимает их, свет проникает в эту волну волос. Вслед за Бахом звучит «Покидая эту землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести». Комическое и космическое вместе освобождает героев, освобождает нас.
Февраль—март 2017 г.
Пьеса открывается ремаркой, скупо описывающей убогий быт убогих героев. Но режиссер о бытовом правдоподобии, разумеется, не думает — его метафизический театр строится на других основаниях. Да и пьеса недвусмысленно намекает на то, что автор (по профессии — не только драматург, но и актер, под именем Александр Сергеев работающий в екатеринбургской «Волхонке», где Янковский поставил «Машину…» пару лет назад) читал Беккета и других абсурдистов. Несмотря на узнаваемость житейской ситуации — больные маргиналы, забытые социумом, — и троица героев, и их взаимоотношения с миром воспринимаются метафорически, не впрямую.
Камерное пространство театра «Особняк» ничем не декорировано, никаких особых сигналов к началу действия, кроме просьбы администратора выключить мобильные телефоны, не дается. В глубине площадки как-то очень незаметно возникает Алиса Олейник в мешковатой, словно с чужого плеча, мужской одежде — рубашка велика, толстые спортивные штаны подпоясаны веревкой, чтобы не свалились.
Длинные светлые волнистые волосы актрисы приглажены и заколоты на затылке. Олейник усаживается на низкий стул, кладет на колени подушку, чтобы было удобнее рисовать, выбирает карандаши, вытаскивая их из целлофанового пакета. Это простейшее дело — подбор карандаша или шариковой ручки нужного цвета — завораживает, настолько сосредоточена на нем актриса, настолько погружена она в это обычное занятие. В это время Дмитрий Поднозов, одетый так, как может быть одет Дмитрий Поднозов в жизни, прохаживается по площадке перед зрителями, время от времени мерно и несколько торжественно выкрикивая: «Виктор! Ты здесь? Где же ты, Виктор?»
Д. Поднозов, А. Хропов, А. Олейник в спектакле. Фото А. Осташвер
Такое начало спектакля создает у зрителя смутное ощущение дискомфорта, хотя абсолютно никакой агрессии от сцены не исходит. Просто Олейник сидит и рисует, не обращая никакого внимания на то, что Поднозов ходит туда-сюда и громогласно взывает к пустоте. Зритель не обязан сразу догадаться, что Дед ничего не видит (актер никак внешне не обозначает ни слепоту героя, ни его возраст), поэтому сцена воспринимается каким-то неясным, интригующим прологом. И тут в ход идет музыка — сильнейший элемент управления зрительским восприятием. Фрагмент саундтрека к фильму «Жилец» Романа Полански, длящийся примерно две с половиной минуты, проигрывается снова и снова, запись закольцована, и эти повторы вводят слушателя в подобие транса, укачивают на волнах звуков. Несмотря на удивительную красоту и мелодичность музыкального отрывка, вкрадывается непонятное беспокойство, даже готовы закипеть беспричинные слезы. Такой сильный эффект производит, я думаю, неземное звучание «стеклянной гармоники» — редкого инструмента, состоящего из стеклянных полусфер разного размера, нанизанных на вращающуюся ось. Французскому композитору Филиппу Сарду пришло в голову использовать стеклянную гармонику в своей музыке к психологическому триллеру Полански; наверное, он знал о том, что в прошлые века считалось, будто странный, льдистый, зыбкий звук этого инструмента чрезмерно воздействует на слушателей, пугает животных, вызывает преждевременные роды и приводит к помутнению рассудка… Такие страшные вещи ни с кем в нашем зале не происходили, однако нежное пение стекла, растворяясь в воздухе, властно проникало в душу.
Под музыку Сарда Старик рассуждает об отсутствии контакта с миром, требует ответа от внука, хоть какой-то его реакции. Вдруг Виктор неожиданно спокойно произносит: «Я рисую». И потом порой безэмоционально роняет реплики о том, что именно он рисует (солнце, дерево, облако). Он явно слышит голос деда, но еще долго непонятно — значат ли для него что-то эти слова. Ощущение, что герои не переговариваются в маленьком замкнутом пространстве, а посылают сигналы с соседних островов в океане или даже — с разных планет. Трагически-возвышенные переливы музыки подсказывают эти космические ассоциации. А ведь при всем том персонажи — не менее комические, чем космические!
У актеров в спектакле — особого рода партнерство, ведь реального диалога героев вроде бы долго нет, но есть тонкий контакт исполнителей, их непрямые реакции видны. Они ведут параллельно свои темы, существуют в разных ритмах, выявляют противоположности. Виктор с его кротким, спокойным, светлым лицом терпеливо чиркает по листу бумаги, тщательно заштриховывает его, скрипит ручкой. Старик беспрестанно (но не суетливо) двигается, наливает в бокал вино и пьет, ставит «на повестку дня» вечные вопросы, как бы пытаясь разбудить, «растормошить» сознание внука. Он с издевательской торжественностью подводит горькие итоги жизни, делает неутешительные выводы о бытии и о себе в нем. К моменту появления третьего персонажа сосуществование двух первых становится почти невыносимым для зрителя, изнуряющим (так может измотать слушателя бесконечное рондо — например, «Болеро» Равеля).
Борис приносит еду (рефреном звучит у Виктора—Олейник требовательное, отрывистое, омузыкаленное словосочетание «тушеная капуста», этак: «тушонннная капУста»), а актер Анатолий Хропов приносит новую интонацию, новый ритм. Сначала кажется, что его герой явился посланцем из мира «нормальных» людей, но быстро понимаешь — он не менее странный, чудной. Герой фантастически заторможен. Он невозмутимо стоит и ждет, ждет, пока Виктор ответит ему, паузы между вопросом и невозникающим ответом длятся, растягиваются. Эти зоны молчания и ожидания слова переживаются зрителем в зале как жажда глотка — воды ли, воздуха ли.
Д. Поднозов, А. Хропов в спектакле. Фото А. Осташвер
Старик еще до прихода Бориса выводит для Виктора афористичную формулу единства противоположностей: «Ты все видишь, но не чувствуешь. Я все чувствую, но ничего не вижу. Мы дополняем друг друга». Третий герой должен равновесие поколебать: он может видеть и чувствовать, но для него это не имеет значения. Борис—Хропов пытается рассуждать логически, подвести житейские обоснования под странные идеи двух своих подопечных — и тем самым продемонстрировать их полную нежизнеспособность. Например, Виктор, оказывается, рисует машину, которая едет к морю (это удается вытянуть из него с неимоверным трудом). За рулем — старик, потому что остальные не умеют водить, а дедушка слепой, ему все равно… Дворник негодует, увещевает, отрезвляет, а Старик подначивает Бориса, упрямо утверждая, что он такой же никому не нужный идиот, как они, Виктор выводит его из себя своими нелепыми страхами — он боится утонуть в раковине и потому не моет посуду… И вся эта комически-абсурдная перебранка приводит к взрыву: Борис наносит Старику удар в челюсть, и Поднозов театрально, а вернее — по-клоунски смешно, складывая в три приема свою длинную фигуру, валится на площадку. Тишина, только жалобные ритмичные постанывания перепуганного Виктора…
Метафизическая клоунада — так я рискнула бы определить стиль игры в этом спектакле. Им приходится точно вымерять пропорции — не хочется вовсе пожертвовать выразительностью ради тонкости, с одной стороны, а с другой — нельзя превратить все в откровенную буффонаду, пусть и философическую. Но правда, очень смешно, когда долговязый Дед, возвышаясь над миниатюрным внуком, с едкой иронией говорит ему: «Ты же здоровый лоб!» А плотный, основательно стоящий на земле Борис, стараясь быть спокойным, при этом все время транслирует невероятную растерянность человека, не знающего, как справиться с отчаянием, обидой на жизнь. Все эти диссонансы, контрасты — драматичны, но и исполнены особого юмора, не злого и колкого, а мудрого, высокого.
Алиса Олейник играет Виктора так, что мы видим в герое черты особого ребенка, как будто актриса наблюдала за тем, как ведут себя люди с расстройствами аутистического спектра, но ее существование на сцене — не фотографический снимок реальности. Да, Виктор может издавать резкие крики, как рассерженный сиамский кот, может повторять, как заведенный, одно и то же («Тушеная капуста», «Машина едет», «Я боюсь»), может внезапно отворачиваться и механически рисовать на первой попавшейся под руку поверхности — ботинке Бориса или на стене (уходя в это занятие, он защищается от окружающего мира). Но все эти черты проявлены актрисой с такой грацией, так нежно — и в то же время с такой отточенной выразительностью, что Виктор не вызывает ни нашего нездорового любопытства, ни неприязни, ни жалости. Ангельская внешность Олейник в сочетании со странными проявлениями ее героя производят очень сильное впечатление на зрителя, заставляют его напряженно следить за Виктором, боясь пропустить хоть что-то. Актриса, безусловно, фокусирует внимание, но рисунок спектакля выполнен так, что публика при этом не теряет из виду ее партнеров — построена амплитуда сгущений и разрядок действия.
Концентрация комического в спектакле — сцена Бориса, Виктора и лежащего на полу Деда. Текста здесь совсем немного, но актеры растягивают эпизод многочисленными гэгами, к тому же делают все невероятно замедленно, что и смешит, и щекочет зрительские нервы. Виктор, например, не желая прикасаться к Старику, потому что от него воняет, сначала старательно накрывает его ноги кухонными полотенцами, потом долго-долго трясет рукавами, чтобы взяться за деда не голой рукой, а через рубашку, а заодно и заткнуть себе нос. Наконец, он наклоняется, но тут из его нагрудного кармашка вываливается карандаш — что делать, как быть?.. Новый виток комических приспособлений… Когда Старика перекладывают, он задевает рукой стоящую на полу бутылку, и Поднозов всегда ловким движением ее подхватывает и ставит на место, несмотря на то, что его герой находится в глубоком обмороке! В общем, здесь целый поток крошечных лацци, не жирных и ярких, а словно прорисованных острым цветным карандашом. Как будто тем, что в руке у Виктора, который рисует машину и синее море. Машина едет быстро, и в машине, конечно, он сам, его дед и Борис.
…Финальная часть спектакля условно отделена возникающим во второй раз в эфире чужеродным голосом диктора из теленовостей. Euronews, как обычно, сообщает о катастрофических событиях, о терактах, землетрясениях, авариях, наводнениях. Новости проникают из внешнего мира, который отверг героев Бьерклунда как ненужных, несущественных, неинтересных существ. Или, может быть, сами персонажи отвергли этот пугающий, жестокий, адски холодный мир, спрятались от него, предпочтя добровольное заточение? Дед ведь даже не разрешает открывать окна, боясь «мутировать». Но что-то меняется, когда происходит кризис, когда между тремя героями возникает не формальная, словесная, а очень конкретная связь, возможность контакта, даже физического. И вот старик «оживает» и решается поведать свой план побега, план спасения. На машине, которая, оказывается, у него есть, им — всем троим — надо уехать к морю. Там им будет хорошо.
В бормотании телевизора можно расслышать еще один сигнал зрителю: закадровый голос объявляет начало фильма Джима Джармуша «Более странно, чем в раю». Для кого-то фраза прозвучит как намек на происходящее (тут, в «Особняке», действительно очень странно), а для тех, кто помнит этот ранний черно-белый фильм знаменитого режиссера, сработает невольная ассоциация: у Джармуша трое героев-эмигрантов, живущих бессмысленной, бесперспективной жизнью чужаков, изгоев в Америке, неожиданно пускаются в путь — на машине едут к морю. Поездка оканчивается ничем, но реальность размывается, события вообще не важны, а вот возникающее чувство возможной человеческой близости — важно. Так и здесь.
Д. Поднозов, А. Олейник в спектакле. Фото А. Осташвер
Когда видишь, что Виктор совсем незаметно, тихо выбрался из своей прозрачной воображаемой клетки, расслабился, разлегся на полу, положив ногу на стульчик и покачивая ею, становится как-то тепло и нестрашно. И оказывается в финале, что он не только внимательно слушал, но и истово, со всей доверчивостью ребенка поверил в рассказ деда о путешествии. Он собрался, оделся для дальнего похода. «Я готов. А вы?»
Никто из зрителей, я думаю, не забудет прекрасное, вдохновенное лицо Алисы Олейник и ее жест — актриса освобождает волосы из пучка на затылке и поднимает их, свет проникает в эту волну волос. Вслед за Бахом звучит «Покидая эту землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести». Комическое и космическое вместе освобождает героев, освобождает нас.
Февраль—март 2017 г.