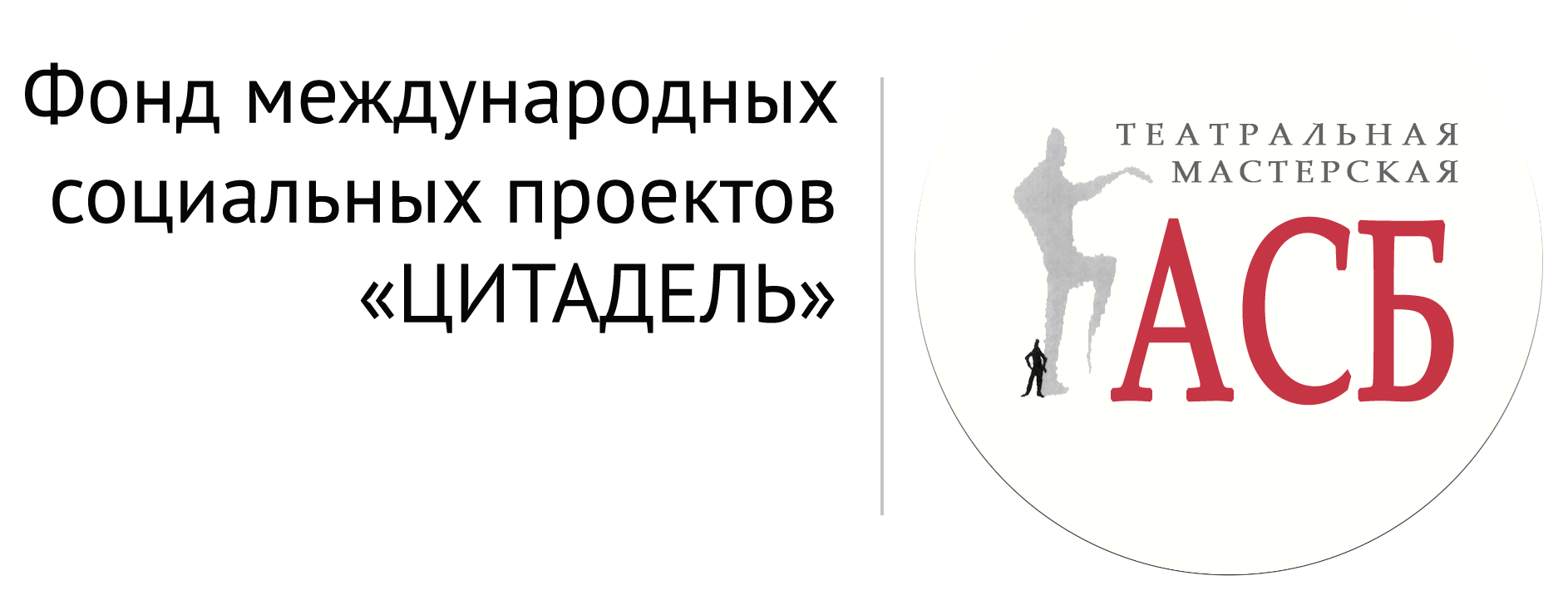«Не корысти ради. Монолог Клима с представлением и комментариями»
1993-11-13 • Кузнецова А. • Мир искусства
1993-11-13 • Кузнецова А. • Мир искусства
Он – Клим, то есть у него другое имя – Владимир Клименко, театральный режиссер. Но имя это он не любит. «...Недаром в иночестве монахи меняют имя. Имя имеет власть над человеком. Втягивает в свою игру. Владеть миром — не мое... Клим! Клим! Как камушек в воду в тихую и ясную погоду. Звук дает расстояние, успокаивает», – это из его слов.
Его и по Москве так зовут все более множащиеся поклонники студии в подвале Средне-Каретного переулка, которой он руководит. И в разных странах мира: в Австрии, Германии, Бельгии, Югославии, где успел побывать Клим с учениками и спектаклями «Персы», «Служение «Слову», «Три ожидания пейзажа Гарри Пинтера». Пожалуй, их даже лучше знают за границей, чем на родине. Несколько последних лет Клим привлекает внимание мировой театральной элиты как лидер русского авангардного театра.
Хотя от этого слова «авангард» он морщится, в нем ему слышится «нечто военное»: «...есть искусство и не искусство, профессия и дилетантство. Стараюсь заниматься нормальным классическим искусством».
Он вообще не приемлет готовых формулировок, вглядывается и находит новый смысл в, кажется, давно привычных и стертых понятиях, ничто не берет на веру, во всем ищет собственное. Наверное, с подобного отношения к жизни и начинается режиссерская профессия.
У него, у Клима, ясное, спокойное лицо, внимательные глаза, чеканный профиль. Длинные волосы с косичкой. Пестрый шарфик на шее. Внешний вид — всегда неслучайная часть имиджа. То, как человек выглядит, его житейские приспособления и репутация часто существуют не для того, чтобы обнаруживать, раскрывать а, напротив, чтобы скрывать внутреннее, сущностное от праздных посторонних глаз.
Клим: «Имидж — стена... глубокий колодец и только свет наверху. Имидж неоднократно помогал мне уйти от опасности, например, когда грозила беда и могли исключить из ГИТИСа...».
Одиночество художника — исповедуемый им принцип. «То, что я делаю, нужно одному человеку, мне самому. Иллюзий у меня нет».
Как он рассказывает, харьковская юность, два начатых и брошенных технических вуза, мучительные поиски себя и работа в театре от рабочего сцены до художника, собственная самодеятельная студия, потом разогнанная, молодежная «тусовка» семидесятых годов с серьезным увлечением идеями «хиппи», пройденные «круги ада» вплоть до самого страшного, сумасшедшего дома, воспитали в нем, деревенском мальчишке из-под Миргорода, инстинкт «делания без ответа».
«Знание не выходит за грань самого себя. Не люблю слова «тема». Жалко, что вы не видели моего «Ревизора». Он был посвящен родителям, сельским учителям, которые жили при Сталине, войне, репрессиям, но ведь люди жили, любили, они такие же, как я. Для меня пьеса не играет никакой роли. Мне нужны артисты. Содержание я придумаю. Я ставлю на актера. Он сам, его жизнь являются пьесой. Те слова или другие, какая разница. Я перепишу пьесу...».
Да! Не припомню, чтобы любой из встреченных мной за жизнь режиссеров признавался в чем-то подобном. Наоборот, всегда — о верности выбранной пьесе, о важности постижения авторской стилистики и темы. Но, наверное, я совсем из другого мира и поколения, и хоть Клим полагает, что все люди одинаковые, мы, конечно же, разные.
Представляю, как непросто было учить его профессии на режиссерском факультете в вузе даже таким прославленным мастерам, как Анатолий Эфрос и Анатолий Васильев. Клим подтверждает: и приняли с трудом — он был тридцать седьмым в списке всего с двумя экзаменационными баллами, — и отношения с учителями складывались непросто, «как через стекло». Учителя? По своему обыкновению он и это уточняет: «Учитель выбирает ученика, а не наоборот». И еще: «Мне везло на интересных людей». Восхищался искренностью Эфроса, парадоксами Васильева, вспоминает, как тот, получив наконец помещение под свой театр, вдруг погрустнел и сказал: «Про что же мне теперь ставить?!».
Климу никогда не мешал статус «великих», он воспринимает окружающих чуть отстранение, трезво, даже цинично, в театральный институт пришел уже взрослым, сложившимся, воспитанным на хорошем кино Бергмана, Антониони, Бертолуччо, Висконти, Занусси, гениальным считает фильм Эфроса «В четверг и больше никогда». Любимый фильм «Андрей Рублев». «Станиславского прочел только на последнем курсе. На режиссерский факультет пришел не за профессией, я ею уже владел. За бумажкой».
В его словах мне, конечно же, слышится некоторый вызов, эпатаж, но кокетства, лицемерия в нем явно нет. К профессии своей он относится удивительно серьезно.
«Помните библейский сюжет? Но ведь Христос рождался не один, а много раз. Зато только однажды сказали садитесь на осла, берите ребенка, бегите. Когда тебе говорят, что дорога открыта, надо все оставить и идти. Суметь бросить все, к чему привязан и что любишь. Когда двери открываются, начинаются проблемы, наваливаются демоны, держат. Режиссерская профессия с точки зрения нормальных людей аморальна. Как в политике: цель оправдывает средства, победителей не судят. Главное, дело должно идти. Я аморален. Приемлю все».
Он и общественную политическую жизнь рассматривает сквозь призму своей профессии.
«...Власть режиссера ли, политика — это ответственность перед людьми. Не имел права отрекаться от власти царь. Обиделся на мир, ушел Горбачев, и это непозволительно. Власть — от Бога! Отказываться от власти — отказываться от Бога. Политики, режиссеры — профессия мужчин, они не имеют права думать только о собственной душе».
... «Величайшим режиссером XX века был Ленин. Когда-то я был на нем помешан. Перечитал все его книги, думаю, что люди, которые делали революцию, были чистыми. Но есть личность, намерения и то, что потом происходит. Чистота, наивность, желание сделать жизнь людей лучше — выше этого стремления ничего нет, но в случае с большевиками это привело к чудовищным последствиям. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь».
Клим разграничивает ответственность и зависимость. Второго он избегает. Поэтому в его «подвале» не продают билетов. «Билет накладывает обязательства, от которых мы хотим быть свободны».
Его студия сродни лаборатории. «Когда-то нравилось это слово. Сейчас — нет. У Гротовского лаборатория. Мы близки, но не вполне. И все-таки точнее слова для нас не найдут. Мы занимаемся Наукой. Пытаемся дать ответ на вопросы, кто такой «я», мир, Бог, время, пространство. Чтобы каждый человек мог прийти и состояться. В том числе зритель. Зритель — тот же актер, он проигрывает то же, что и актер, сильнее актера, ему не дано ни в чем проявиться, он прижат к стулу, это ли не вершина сценического искусства — прожить происходящее без внешних проявлений! Энергия идет из публики».
Клим не создает репертуарный театр, не накапливает афишу, не держит постоянный состав исполнителей.
«Возникает спектакль, играется, умирает. Одна из проблем — научиться отказываться. Мы все время переделываем, создаем новые версии, каждый день с утра — нет ничего. Прекрасно только движение. Остановка — смерть. Однажды пригласил случайных людей. Репетировали «Стеклянный зверинец», два раза сыграли. Поэтому и западные продюсеры не любят иметь со мной дела: ждут Пинтера, а я привожу «Слово».
Сейчас в климовском подвале идет странный спектакль под не менее странным и уж вовсе нескромным названием «Мир-Театр — Мужчины — Женщины — Актеры — Шекспир». Идет три вечера подряд, девять часов. Там всего-то и отыгрывается в разных вариантах одна короткая сцена из «Укрощения строптивой». Но какое же это исполнительское пиршество! Какое виртуозное владение режиссерской профессией. Клим делал этот спектакль вместе со своим соучеником по институту Владимиром Берзи-ным, подробная рецензия на него была недавно опубликована в «Культуре». Свободное смешение времен, стилей, жанров, настроений, костюмов. Драма, комедия, фарс, причудливые фантазии. А в общем-то, и это было для меня самым поразительным открытием при всей причудливости и неожиданности происходящего, это было и про меня, и про моих соседей, про любого из людей.
Вокруг меня сидели десятка два преимущественно юных, почти не отличимых друг от друга парней и девушек. Все в джинсах, все курят — разве что длиной волос отличаются: девицы стрижены чуть ли не! наголо, мальчики длинноволосые. Сам Клим, босой, среди, зрителей. Мол, соседка сзади тоже сняла туфли, удобно устроила ноги на спинке моего стула. Это, конечно же, их, нынешних молодых, театр. Но ведь и мне здесь интересно!
И неужели же пережитые мной удивление, радость достаются нынче только в подвале?
Клим: «Я не вижу принципиальной разницы между студиями и официальными театрами. Несколько лет назад Союз театральных деятелей оказал помощь экспериментальным поисковым коллективам в рамках «Творческих мастерских». Это была как резервация для индейцев, хотя вопреки всем закономерностям «индейцы» выжили, закалились в трудностях, тогда как «американцы» занялись бытоустройством, стали стричь газоны, считать дол; лары».
Вот и ответ на вопрос о разнице студий и государственных театров. А Клим продолжает: «Водораздел только один: дело и делание вида. Искусство и не искусство. Подвалы оказались для многих молодых случайным местоположением. Не, как и все в жизни» это было не случайным. В какое-то время даже оказалось программным явлением. Из подвалов выросла «школа самозванства» Вадима Жакевича, их спектакль «Землянка» меня потряс. Оттуда же родом, по-моему, талантливые Володя Берзин и Володя Космачевский в Москве, Виктор Попов в Запорожье... А сейчас «подвалы» себя изжили.
Нет, Клим не сетует на отсутствие новых художественных идей, не видит современное искусство в кризисе: «Интереснейшее время сейчас у театра». С уважением отзывается о поисках режиссере С. Женовача. Только театр ему видится гораздо шире, чем привычный набор известных имен, явлений, авторитетов, которые у всех на слуху. Может, и нам всем стоит быть полюбопытней и повнимательней к окружающему нас миру? Вопрос риторический. А уж как нуждаются молодые и талантливые в помощи! Говорят, комитет по культуре Московской мэрии оказывает финансовую поддержку множеству студий. Каким? Кому из них? За что? И почему среди них нет, уверена, самой талантливой, руководимой Климом?
Ведь Клим с помощниками и своими артистами живет без всяких зарплат и неизвестно на что.
Но об этом он разговоров не ведет.
Его и по Москве так зовут все более множащиеся поклонники студии в подвале Средне-Каретного переулка, которой он руководит. И в разных странах мира: в Австрии, Германии, Бельгии, Югославии, где успел побывать Клим с учениками и спектаклями «Персы», «Служение «Слову», «Три ожидания пейзажа Гарри Пинтера». Пожалуй, их даже лучше знают за границей, чем на родине. Несколько последних лет Клим привлекает внимание мировой театральной элиты как лидер русского авангардного театра.
Хотя от этого слова «авангард» он морщится, в нем ему слышится «нечто военное»: «...есть искусство и не искусство, профессия и дилетантство. Стараюсь заниматься нормальным классическим искусством».
Он вообще не приемлет готовых формулировок, вглядывается и находит новый смысл в, кажется, давно привычных и стертых понятиях, ничто не берет на веру, во всем ищет собственное. Наверное, с подобного отношения к жизни и начинается режиссерская профессия.
У него, у Клима, ясное, спокойное лицо, внимательные глаза, чеканный профиль. Длинные волосы с косичкой. Пестрый шарфик на шее. Внешний вид — всегда неслучайная часть имиджа. То, как человек выглядит, его житейские приспособления и репутация часто существуют не для того, чтобы обнаруживать, раскрывать а, напротив, чтобы скрывать внутреннее, сущностное от праздных посторонних глаз.
Клим: «Имидж — стена... глубокий колодец и только свет наверху. Имидж неоднократно помогал мне уйти от опасности, например, когда грозила беда и могли исключить из ГИТИСа...».
Одиночество художника — исповедуемый им принцип. «То, что я делаю, нужно одному человеку, мне самому. Иллюзий у меня нет».
Как он рассказывает, харьковская юность, два начатых и брошенных технических вуза, мучительные поиски себя и работа в театре от рабочего сцены до художника, собственная самодеятельная студия, потом разогнанная, молодежная «тусовка» семидесятых годов с серьезным увлечением идеями «хиппи», пройденные «круги ада» вплоть до самого страшного, сумасшедшего дома, воспитали в нем, деревенском мальчишке из-под Миргорода, инстинкт «делания без ответа».
«Знание не выходит за грань самого себя. Не люблю слова «тема». Жалко, что вы не видели моего «Ревизора». Он был посвящен родителям, сельским учителям, которые жили при Сталине, войне, репрессиям, но ведь люди жили, любили, они такие же, как я. Для меня пьеса не играет никакой роли. Мне нужны артисты. Содержание я придумаю. Я ставлю на актера. Он сам, его жизнь являются пьесой. Те слова или другие, какая разница. Я перепишу пьесу...».
Да! Не припомню, чтобы любой из встреченных мной за жизнь режиссеров признавался в чем-то подобном. Наоборот, всегда — о верности выбранной пьесе, о важности постижения авторской стилистики и темы. Но, наверное, я совсем из другого мира и поколения, и хоть Клим полагает, что все люди одинаковые, мы, конечно же, разные.
Представляю, как непросто было учить его профессии на режиссерском факультете в вузе даже таким прославленным мастерам, как Анатолий Эфрос и Анатолий Васильев. Клим подтверждает: и приняли с трудом — он был тридцать седьмым в списке всего с двумя экзаменационными баллами, — и отношения с учителями складывались непросто, «как через стекло». Учителя? По своему обыкновению он и это уточняет: «Учитель выбирает ученика, а не наоборот». И еще: «Мне везло на интересных людей». Восхищался искренностью Эфроса, парадоксами Васильева, вспоминает, как тот, получив наконец помещение под свой театр, вдруг погрустнел и сказал: «Про что же мне теперь ставить?!».
Климу никогда не мешал статус «великих», он воспринимает окружающих чуть отстранение, трезво, даже цинично, в театральный институт пришел уже взрослым, сложившимся, воспитанным на хорошем кино Бергмана, Антониони, Бертолуччо, Висконти, Занусси, гениальным считает фильм Эфроса «В четверг и больше никогда». Любимый фильм «Андрей Рублев». «Станиславского прочел только на последнем курсе. На режиссерский факультет пришел не за профессией, я ею уже владел. За бумажкой».
В его словах мне, конечно же, слышится некоторый вызов, эпатаж, но кокетства, лицемерия в нем явно нет. К профессии своей он относится удивительно серьезно.
«Помните библейский сюжет? Но ведь Христос рождался не один, а много раз. Зато только однажды сказали садитесь на осла, берите ребенка, бегите. Когда тебе говорят, что дорога открыта, надо все оставить и идти. Суметь бросить все, к чему привязан и что любишь. Когда двери открываются, начинаются проблемы, наваливаются демоны, держат. Режиссерская профессия с точки зрения нормальных людей аморальна. Как в политике: цель оправдывает средства, победителей не судят. Главное, дело должно идти. Я аморален. Приемлю все».
Он и общественную политическую жизнь рассматривает сквозь призму своей профессии.
«...Власть режиссера ли, политика — это ответственность перед людьми. Не имел права отрекаться от власти царь. Обиделся на мир, ушел Горбачев, и это непозволительно. Власть — от Бога! Отказываться от власти — отказываться от Бога. Политики, режиссеры — профессия мужчин, они не имеют права думать только о собственной душе».
... «Величайшим режиссером XX века был Ленин. Когда-то я был на нем помешан. Перечитал все его книги, думаю, что люди, которые делали революцию, были чистыми. Но есть личность, намерения и то, что потом происходит. Чистота, наивность, желание сделать жизнь людей лучше — выше этого стремления ничего нет, но в случае с большевиками это привело к чудовищным последствиям. Нельзя вмешиваться в чужую жизнь».
Клим разграничивает ответственность и зависимость. Второго он избегает. Поэтому в его «подвале» не продают билетов. «Билет накладывает обязательства, от которых мы хотим быть свободны».
Его студия сродни лаборатории. «Когда-то нравилось это слово. Сейчас — нет. У Гротовского лаборатория. Мы близки, но не вполне. И все-таки точнее слова для нас не найдут. Мы занимаемся Наукой. Пытаемся дать ответ на вопросы, кто такой «я», мир, Бог, время, пространство. Чтобы каждый человек мог прийти и состояться. В том числе зритель. Зритель — тот же актер, он проигрывает то же, что и актер, сильнее актера, ему не дано ни в чем проявиться, он прижат к стулу, это ли не вершина сценического искусства — прожить происходящее без внешних проявлений! Энергия идет из публики».
Клим не создает репертуарный театр, не накапливает афишу, не держит постоянный состав исполнителей.
«Возникает спектакль, играется, умирает. Одна из проблем — научиться отказываться. Мы все время переделываем, создаем новые версии, каждый день с утра — нет ничего. Прекрасно только движение. Остановка — смерть. Однажды пригласил случайных людей. Репетировали «Стеклянный зверинец», два раза сыграли. Поэтому и западные продюсеры не любят иметь со мной дела: ждут Пинтера, а я привожу «Слово».
Сейчас в климовском подвале идет странный спектакль под не менее странным и уж вовсе нескромным названием «Мир-Театр — Мужчины — Женщины — Актеры — Шекспир». Идет три вечера подряд, девять часов. Там всего-то и отыгрывается в разных вариантах одна короткая сцена из «Укрощения строптивой». Но какое же это исполнительское пиршество! Какое виртуозное владение режиссерской профессией. Клим делал этот спектакль вместе со своим соучеником по институту Владимиром Берзи-ным, подробная рецензия на него была недавно опубликована в «Культуре». Свободное смешение времен, стилей, жанров, настроений, костюмов. Драма, комедия, фарс, причудливые фантазии. А в общем-то, и это было для меня самым поразительным открытием при всей причудливости и неожиданности происходящего, это было и про меня, и про моих соседей, про любого из людей.
Вокруг меня сидели десятка два преимущественно юных, почти не отличимых друг от друга парней и девушек. Все в джинсах, все курят — разве что длиной волос отличаются: девицы стрижены чуть ли не! наголо, мальчики длинноволосые. Сам Клим, босой, среди, зрителей. Мол, соседка сзади тоже сняла туфли, удобно устроила ноги на спинке моего стула. Это, конечно же, их, нынешних молодых, театр. Но ведь и мне здесь интересно!
И неужели же пережитые мной удивление, радость достаются нынче только в подвале?
Клим: «Я не вижу принципиальной разницы между студиями и официальными театрами. Несколько лет назад Союз театральных деятелей оказал помощь экспериментальным поисковым коллективам в рамках «Творческих мастерских». Это была как резервация для индейцев, хотя вопреки всем закономерностям «индейцы» выжили, закалились в трудностях, тогда как «американцы» занялись бытоустройством, стали стричь газоны, считать дол; лары».
Вот и ответ на вопрос о разнице студий и государственных театров. А Клим продолжает: «Водораздел только один: дело и делание вида. Искусство и не искусство. Подвалы оказались для многих молодых случайным местоположением. Не, как и все в жизни» это было не случайным. В какое-то время даже оказалось программным явлением. Из подвалов выросла «школа самозванства» Вадима Жакевича, их спектакль «Землянка» меня потряс. Оттуда же родом, по-моему, талантливые Володя Берзин и Володя Космачевский в Москве, Виктор Попов в Запорожье... А сейчас «подвалы» себя изжили.
Нет, Клим не сетует на отсутствие новых художественных идей, не видит современное искусство в кризисе: «Интереснейшее время сейчас у театра». С уважением отзывается о поисках режиссере С. Женовача. Только театр ему видится гораздо шире, чем привычный набор известных имен, явлений, авторитетов, которые у всех на слуху. Может, и нам всем стоит быть полюбопытней и повнимательней к окружающему нас миру? Вопрос риторический. А уж как нуждаются молодые и талантливые в помощи! Говорят, комитет по культуре Московской мэрии оказывает финансовую поддержку множеству студий. Каким? Кому из них? За что? И почему среди них нет, уверена, самой талантливой, руководимой Климом?
Ведь Клим с помощниками и своими артистами живет без всяких зарплат и неизвестно на что.
Но об этом он разговоров не ведет.