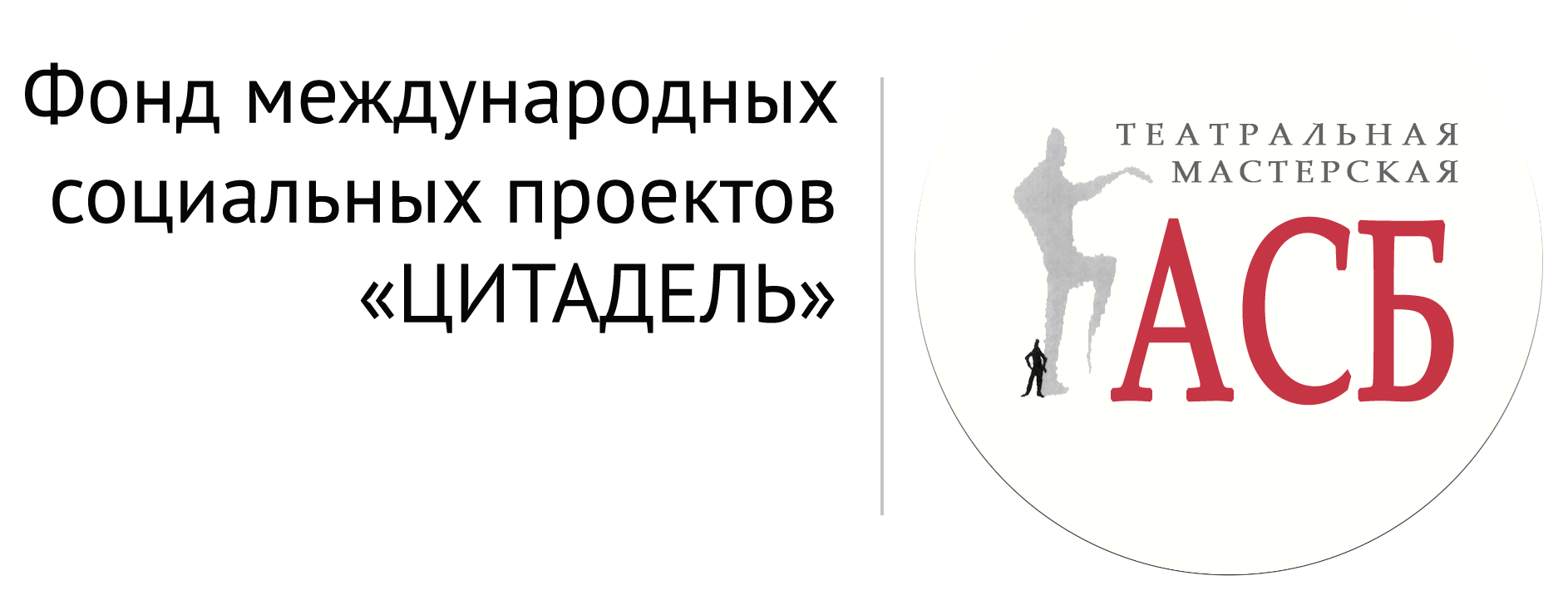Репертуар

Спектакль "Бес-Сон-Ницца"

Ну как вам НИцца?
Олег Евгеньевич Иванов, доктор философских наук, профессор, проректор Санкт-Петербургского Института богословия и философии.
Олег Евгеньевич Иванов, доктор философских наук, профессор, проректор Санкт-Петербургского Института богословия и философии.
Эта реплика ни в коем случае не рецензия на спектакль. Я не театровед и даже не театрал, хотя помню те времена, когда фамилия «Товстоногов» произносилась этими самыми театралами благоговейным шёпотом и в тогдашних драматических театрах было что и на кого посмотреть. Конечно же, посещать их приходилась. Но эта реплика не более чем попытка ответа на поставленный создателями в спектакле «БЕС-СОН-НИЦЦА» вопрос. Притом вопрос драматурга, режиссёра и актёра, обращённый именно ко мне. Хотя каждый зритель, присутствовавший на спектакле, мог бы оспорить такого рода приватизацию и утверждать, что вопроса удостоился именно он, а не кто-то другой. И этот каждый безусловно будет прав, так как настоящих вопросов «ко всем» не существует, потому что не существуют и эти сами «все». Существует только каждый. Выражение, например: «так было во все времена», совершенно бессмысленно, ибо мы существуем только в нашем времени и в нём должны отвечать на обращённые к каждому из нас вопрошания.
Что за вопрос прозвучал для меня в БЕС-СОН-НИЦЕ? Его нельзя прямо так, с ходу сформулировать. К нему надо подойти, а чтобы сделать это, необходимо осознать, что с нами в главном происходит, когда мы переступаем порог театра «Особняк». В своём опыте театральных посещений я привык к некоторому поэтапному движению от входа к сердцу театра: подъезд-гардероб-вестибюль-зрительный зал. Есть ещё, конечно, и «святая святых» - сцена, отгороженная от зрителей до времени плотным занавесом. Когда занавес открывается, тогда и начинается спектакль. Отсюда существует как бы и два самостоятельных времени: профанное время подготовки и ожидания и время, подобное сакральному, от начала и до конца сценического действия. Потому и функции участвующих в спектакле людей чётко разграничены, исполнитель всегда исполнитель, а зритель всегда зритель. Интерактивность сегодня тоже широко присутствует, но различие ролей, однако, всегда будет иметь место, и зритель будет чувствовать и понимать, что его намеренно «вовлекают» в игру». Однако сам он прекрасно знает своё положение, и происходящее имеет для него условную, именно игровую природу. У меня большое подозрение, что в «Особняке» для зрителя, если он, конечно, не здешний «завсегдатай», подобное осознание «своего места» даётся не так легко. Прежде всего здесь почти полностью отсутствует упомянутая выше «декомпрессия» в приближении к главной точке театра и посетитель, переступив порог помещения, тут же оказывается в «сакральном пространстве», почти на сцене, от которой его отделяет только небольшой тамбур, где можно оставить верхнюю одежду. Не знаю, возможно, реальная причина такой топографии в том, что большее сооружение воздвигнуть по каким-либо внешним обстоятельствам было нельзя. Но этот «недостаток» тут же обнаруживает свой «сверхматериальный» смысл. Та самая грань между зрителями и действующими лицами пьесы стирается: по существу, на сцене оказываются и те и другие. Нечто подобное происходило в шекспировском «Глобусе». Но в «Особняке» такого внешнего соприсутствия оказывается мало. Зритель здесь втянут в происходящее на сцене гораздо сильнее, нежели только пространственно. Обычная в театре грань между ожиданием начала спектакля, когда зритель чувствует себя «самим по себе», и начавшимся спектаклем здесь тоже отсутствует.
Переступив порог «Особняка», зритель тут же оказывается «внутри спектакля», который на самом деле уже начался до его прихода. Происходит это не потому, что зритель опоздал ко времени его начала, а потому, что прийти заранее и пройти «декомпрессию» зрителю вообще невозможно. Когда первого, загодя пришедшего, желающего попасть в театр, впускают в зал, то там уже звучит фонограмма с записью шума дождя и горят свечи на столе. Тем самым зритель оказывается втянутым не только в пространство, но и в сам медленно разворачивающийся и пока сокрытый смысл мистерии. БЕС-СОН-НИЦЦА - это моноспектакль лишь по внешним признакам. Он начинает играться за полчаса до выхода того самого «моно» актёра. Актёр просто выйдет и объяснит другим участникам, актёрам поневоле, где они находятся, что с ними происходит и что будет дальше. Люди двигают стулья, переговариваются, переходят с одного места на другое, жестикулируют и им кажется, что всё это их частное дело, что в этом они свободны, пока ещё «ничего не началось». Но именно кажется. На самом деле всё уже началось. «Особняк» уже поглотил их и подчинил замыслу творца действия. Они уже не просто те же самые прежние они, естественные, не соотносящиеся с собой, «целенькие» зрители. Они теперь, пусть и бессознательно, играют самих себя. Бессознательно, так как ещё не понимают, что находятся теперь не в помещении театра на Каменностровском проспекте, д.55 в Санкт-Петербурге, а силой театральной магии в сумасшедшем доме в Ницце и что их сюда только что привезли. Но это им сейчас объяснит, наконец, выходящий на сцену актёр, обратившись, нет, не к зрителям, а к окружающим, так сказать, товарищам по несчастью или счастью. «Ну как вам НИцца?» [1, С.323] и далее: «В сумасшедшем доме действительно страшно… Когда ничего не подозревающий человек оказывается в нём первый раз. Ну как вы сейчас» [1, С.325].
Я сообразил всё это не сразу. Сначала меня занял вопрос, так сказать, экономический. Я не мог понять, зачем так щедро расходовать свечи, зажигая их намного раньше начала действия? Ведь напротив, если бы свечи зажёг вышедший актёр, то это могло бы послужить сигналом его начала, что называется, таким «ударом колокола». До меня не сразу дошло, что он, этот колокол, ударил уже давно и я просто не мог его услышать, что сейчас отнюдь не первый день творения, что все начала и концы теперь не только вне моей власти, но и вне моего знания, вне моего ума, на который я уже не могу полагаться. Воистину, таким образом, действительно становится ясно, что не все театры, согласно обычной логике, начинаются с вешалки. В «Особняке» логика иная: сама вешалка начинается со сцены, фактически и находясь на ней, а пользующиеся ею люди, прежде чем снять верхнюю одежду, уже становятся, по сути, актёрами начавшегося спектакля и продолжают быть таковыми даже тогда, когда выход главного героя пьесы привяжет их к своим стульям.
Поскольку речь идёт о сумасшедшем доме, то такой способ фиксации зрителя можно сравнить с применением смирительной рубашки, которая упоминается в самом начале речи «возможно Тоцкого». Но, слава Богу, зритель об этом не догадывается, ведь он думает, что здесь для него разыгрывается некое зрелище, в то время, как на самом деле здесь раздевают его душу, дабы вселенский холод объял её и она таким образом соприкоснулась с реальностью, от приговора которой её может спасти лишь «вино спасительных видений» [1,С. 326]. Но вино - метафора, зримое и помятуемое представление. Реально же спасает скорее «звучание спасительных словес», почерпнутых большей частью из текстов Священного Писания. Сам монолог гипотетического Тоцкого начинается с цитаты из первой главы Книги Бытия. Вообще цитатами из Библии пользовались и пользуются многие. Французский художник Жан Эффель, например, на основе библейского текста создал серию забавных милых картинок под названием: «Сотворение мира». Однако в ситуации героя пьесы они вряд ли способствовали бы необходимому для реализации замысла Клима катарсису. Их назначение в ином, лёгком, житейски простом. Конечно же мы знаем, что спасительные словеса «законно» звучат главным образом на богослужениях в христианских храмах, а также пестрят на страницах всевозможной благочестивой «душеспасительной» литературы или богословских книг. Здесь, кажется, и должно быть их законное место. Все остальные места, в том числе и театральные подмостки, так сказать, к случаю и по ходу дела. Даже романы Достоевского должны здесь уступить первенство, в смысле адекватности применения, литургическому тексту. Поступиться, пожалуй, можно только душеспасительной литературой. Ведь она сама вторична и предназначена для подготовки старушек, находящихся в ожидании, когда будет нужно бросить вязанку хвороста в костёр какого-нибудь новоявленного еретика. В наши дни он оказывается, правда, к удаче для «еретиков», большей частью словесным. Но тут есть одно обстоятельство, значения которого нельзя недооценивать, опять-таки особенно сегодня. Литургический текст привязан к богослужению, что превращает его в обычном восприятии в специальную литературу для особого рода людей, «верующих в Бога», и не имеет доминантного универсального, общекультурного существования. Кроме того, возможно, многие живые и думающие люди оказываются индифферентными к церковному богослужению вследствие того, что можно условно назвать этого богослужения объективностью. «Результативность» происходящего в Церкви субъективна, эмпирически не фиксируема и не переживаема. Итог храмовой молитвы являет себя только на небесах. Поэтому, собственно, к священнику, человеку, возглавляющему литургию, и тем кто на ней присутствует, нельзя предъявить никаких подлежащих проверке требований, включая сам факт личной веры, предполагающих самостоятельное внутреннее усилие, за исключением, пожалуй, внимания и пристойного поведения, ведь благочестивые старушки склонны, например, и поболтать во время «объективно» совершаемого Таинства. Необходимо только, чтобы богослужение совершалось канонически, по установленным правилам. Хотя даже внимание, как считает Симона Вейль, здесь не столь обязательно. «Вещи, относящиеся к религии, - пишет она, - суть вещи ощутимые, определённые, находящиеся в этом мире, - но при этом вещи совершенно чистые. Они чисты не по образу своего собственного существования. Церковь может быть безвкусной, пение фальшивым, священник порочным, а молящиеся рассеянными. В некотором смысле это совершенно неважно… вещи, относящиеся к религии, чисты по праву, теоретически, по допущению, по определению, по соглашению» [2, С.243]. Итак, в церковной практике, всё установлено, оговорено, предрешено именно теоретически. Поэтому и Рождество Иисуса Христа, и Его Воскресение обязательно возвратятся, согласно церковному календарю, к церковному человеку в случае неукоснительного соблюдения правил церковного ритуала. Собственные мысли и переживания каждого участника действия здесь особой роли не играют. Но попробуем перенести созданный Вейль алгоритм на театральную почву и предположить, что интерьер театра безвкусен, пьеса скучна, режиссура слаба, актёр бездарен и явно просто отрабатывает свой номер. Вряд ли кто-то будет гарантировать, что спектакль всё равно будет принят на «ура» или вообще состоится. Скорее, напротив, он априори провалится. В театре реально только то, что понято и пережито каждым присутствующим в зале с подачи действующих лиц. Слово здесь имеет смысл лишь тогда, когда оно из произнесённого актёром становится «моим» словом, когда оно достаёт глубин моего сердца. Потому право произнести само слово «Бог» должно быть завоёвано всем строем чувств и мыслей как драматурга, так и режиссёра, актёров и зрителей. Спасительное слово должно родиться в каждом нашем «я», а не появиться «из машины». Бога надо «произвести» самому! Как у Мандельштама:
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
Потому в театре, настоящем театре, всё «без дураков», здесь уместно только происходящее по гамбургскому счёту. Здесь чистота вещей не предзадана. В священнодействии она предзадана вполне законно, в соответствии с «правилами жанра», там свой гамбургский счёт, но в театральном действии вещи надо «отмывать» самим участникам создания спектакля. Разумеется, я не пытаюсь сказать, что театральный спектакль в плане прочтения библейского текста сегодня «предпочтительнее» церковной литургии. Или их надо как-то «смешать», что в своей практике сегодня небезуспешно для себя делает известный авантюрист от церкви Андрей Ткачёв, используя собственные актёрские способности. Что, кстати, и определяет его популярность у, пусть и немногочисленной, православной молодёжи. Она ждёт чего-то «большего», чем способно дать богослужение и находит его в варварском лицедействе этого «пастыря». Но на самом деле надо просто (что непросто) определить место театра «на дороге к храму», в данном случае различить катехизаторскую функцию, которую, на мой взгляд, выполняет спектакль «Особняка». Не страдающий бессонницей современный человек слишком привык ко всякого рода автоматизмам существования, которые легко переносятся на сакральные предметы, благодаря общей предзаданности и гарантированной чистоте смысла последних. На личные же вопросы надо отвечать по требованиям, предъявляемым именно к тебе лично. Поскольку тема безумия и болезни души центральная в БЕС-СОН-НИЦЦЕ, то её груз и груз её разрешения в «спасительных видениях» тоже ложится на каждого, кто присутствует. Ведь в сумасшедшем доме, в Ницце он находится или не в Ницце (следует, однако, помнить, что описанный в пьесе монастырь мог существовать только в западной Европе), благодаря опять-таки магии театра, оказались теперь все, и необходимую внутреннею работу никто другой за конкретного зрителя-исполнителя не сделает. В этом плане театр есть место исполнения не объективного, а субъективного, где, не будучи задетым происходящим сам, ты ровном счётом ничего не поймёшь из внешних описаний или с «чужих слов». Таких слов здесь вообще быть не должно. Эту работу не делает целиком самостоятельно, а как бы руководит ею в сознании каждого присутствующего актёр Кошкидько в БЕС-СОН-НИЦЦЕ. К богослужению, таким образом, может подступить внутренне подготовленный к его смыслам человек.
В начале моей реплики я обещал подвести к вопросу, который увидел в глазах, словах, действиях этого актёра, но сформулировать его по-прежнему отказываюсь. Здесь важно само, создаваемое Кошкидько, состояние вопрошания, драматической незаконченности жизненной ситуации, отсутствие той самой данности и предзаданности. «Человек сохраняет своё достоинство тогда, - писал А.Блок, - когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к самому себе и другим» [3.С.335]. Иисус Христос предлагает как раз успокоение: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Но Он предлагает успокоение обеспокоенным, реально прошедшим состояние беспокойства. Только для них и требуются спасительные видения или слова. Спокойным успокоение не нужно, они уже сами успокоились и, может быть, даже навсегда. Спящего лучше оставить в его покое; зачем будить его, только для того, чтобы предложить снотворное? Церковь, вообще-то, существует для бодрствующих, а не для спящих, для живых, а не для мёртвых. Но сколько ещё у нас осталось живых и бодрствующих? Если речь идёт о пришедших на спектакль «Особняка», то они всё же наличествуют. Чтобы разбудить человека, надо вовлечь его в бессонницу Разума или душевного беспокойства, скажем, пригласить, внутрь самой БЕС-СОН-НИЦЦЫ и прожить с ним, этим человеком, вместе текст Климова. Только тогда, благодаря подобной среде пребывания, он, возможно, станет способен обрести подлинное успокоение в «Глаголах вечной жизни» (Ин.6:68), который на самом деле есть не остановка на месте, смерть разума, а продвижение на непредставимых скоростях к исполнению его задачи.
Разбором содержания пьесы я заниматься не буду, это вывело бы меня за границы того способа реакции на спектакль, который я счёл для себя возможным. Остановлюсь только на самом конце спектакля в свете сказанного выше о беспокойстве и успокоении, где речь идёт о родителях героя.
они сидели на той же лавочке
шёл снЕг
когда Я
отец поднял глазА
и показал ими, что я должен уйтИ
я ушёл [1, С.386]
Так заканчивается спектакль. Явно не «хеппи энд». Но и вообще не «энд». Но что же тогда дальше, если всё уже закончилось? А дальше тот же «густой туман», который «клубится» впереди и в котором ничего не разглядеть. Однако, всё «раскрученное» раньше не испарилось. «Большая птица» вылетела из клетки, клетка пуста и она позади, хотя, может быть клетка та и золотая, и «по размеру», но о ней не стоит жалеть. И ещё есть тот, который знает, что делать сейчас, пока ещё никто не скрылся в тумане и действие продолжается, он не потерял разума. Он показывает сыну глазами, что тот должен делать по большому счёту. Есть Отец. И знак продолжающейся жизни - «я ушёл». Вот на этом моменте чуть остановиться надо. Если бы окончание предшествующего слова «уйтИ» оторвалось от него и превратилось в союз, то это поколебало бы смысл всего предшествующего бессонного движения. Выражение «Я ушёл» отличается от «И я ушёл». Последнее означает совершенное и совершённоедействие, говорящее о некотором итоге пройденного пути. Оно резонировало бы с началом текста монолога, где употребляются библейские слова «И был вечер. И было утро». В этом случае уход героя был бы окончательным и круг замкнулся бы, безысходность была бы, кроме всего прочего, сакрализована. Но герой просто «ушёл», сделал шаг к бесконечности в неопределённости густого тумана вслед за вылетевшей птицей, и ушёл согласно воле отца. Начало не совпало с концом. Повода для засыпания и умирания нет. Творение не завершено в судьбе как героя пьесы, так и каждого из нас. Тем более, что и сам Ф.М. Достоевский, оказывается, не всё смог сказать в своём объёмистом романе.
Всего достойного говорения о спектакле в коротком отзыве-отклике тоже не скажешь. Важны самые общие вещи. Пусть театр, если он не «Особняк», и начинается с вешалки. Но не лишен смысла в контексте сказанного и вопрос с чего начинается не театр, а тот же христианский храм? Не исключено, что с театра, если он подобен «Театральной мастерской «АСБ» в «Особняке», если в нём можно обрести БЕССОННИЦУ, беспокойство во имя успокоения в «Глаголах вечной жизни». Ведь они существовали уже тогда, когда ни христианских храмов, ни христианских литургий ещё не было. Не было и собственно христианской Церкви. И похоже, что люди, посвятившие жизнь театру, Владимир Клименко, Алексей Янковский и Александр Кошкидько знают о них больше, чем вездесущий дьякон Андрей Кураев или даже сам плодовитый, будем считать, богослов Григорий Валерьевич Алфеев, он же митрополит Иларион. И эту триаду надо превратить в тетрактиду, упомянув директора театра Татьяну Ртищеву. Ведь именно она скорее всего, зажигала свечи и потом курировала ту часть спектакля, встречая пребывающих, которая разыгрывалась до выхода Кошкидько, когда мы, считая себя зрителями, устраивались на своих местах, наивно полагая, что в действительности не помещены в сумасшедший дом и совершенно душевно здоровы. Когда нам ещё не было показано, что душевное здоровье не приобретается по факту рождения и пребывания в мире сем, а обретается в размышлениях и действиях, которые есть «для иудеев соблазн, а для эллинов-безумие» (1.Кор. 1:23). БЕС-СОН-НИЦЦА – точное название и, не следует спорить с тем, что именно бесы часто вызывают беспокойство и способствуют потере сна. Но если говорить об успокоении таких обеспокоенных, то принести его могут только ангелы. Спектакль об этом. Только вот жаль, что не вспоминается такое слово в русском языке, в котором «ангел» составлял бы первый его слог и которое могло бы стать наименованием новой «» пьесы. Пока текст с такой задачей смог быть переданным желающим с ним ознакомиться только в Откровении. Да и роман Ф.М. Достоевского повода за неё взяться не даёт. А может быть, и не жаль совсем.
Однако, всё же попытаюсь сформулировать тот самый вопрос создателей БЕС-СОН-НИЦЦЫ ко мне, не знаю, как его поняли другие. Скорее всего он таков: «Эй, ты жив ещё или уже мёртв, уже спишь или ещё бодрствуешь»? Я закончил.
Используемая литература:
1.Клим. «8 из числа 7» или 7 дней с Идиотом: Несуществующие главы романа
«Идиот» — СПб.: ФМСП «Цитадель», 2021.
2. Вейль Симона. Формы неявной любви к Богу / пер. с фр., предисл., статьи и комм. П. Епифанова (два письма к о. Жозефу-Мари Перрену переведены Н. Ключаревой). — СПб.: Своё издательство, 2012.
3. Блок Александр. «Рваный плащ» Сем-Бенелли. //Блок А. Сочинения: В 2тт. Т.2, М.1955. С.335.
Что за вопрос прозвучал для меня в БЕС-СОН-НИЦЕ? Его нельзя прямо так, с ходу сформулировать. К нему надо подойти, а чтобы сделать это, необходимо осознать, что с нами в главном происходит, когда мы переступаем порог театра «Особняк». В своём опыте театральных посещений я привык к некоторому поэтапному движению от входа к сердцу театра: подъезд-гардероб-вестибюль-зрительный зал. Есть ещё, конечно, и «святая святых» - сцена, отгороженная от зрителей до времени плотным занавесом. Когда занавес открывается, тогда и начинается спектакль. Отсюда существует как бы и два самостоятельных времени: профанное время подготовки и ожидания и время, подобное сакральному, от начала и до конца сценического действия. Потому и функции участвующих в спектакле людей чётко разграничены, исполнитель всегда исполнитель, а зритель всегда зритель. Интерактивность сегодня тоже широко присутствует, но различие ролей, однако, всегда будет иметь место, и зритель будет чувствовать и понимать, что его намеренно «вовлекают» в игру». Однако сам он прекрасно знает своё положение, и происходящее имеет для него условную, именно игровую природу. У меня большое подозрение, что в «Особняке» для зрителя, если он, конечно, не здешний «завсегдатай», подобное осознание «своего места» даётся не так легко. Прежде всего здесь почти полностью отсутствует упомянутая выше «декомпрессия» в приближении к главной точке театра и посетитель, переступив порог помещения, тут же оказывается в «сакральном пространстве», почти на сцене, от которой его отделяет только небольшой тамбур, где можно оставить верхнюю одежду. Не знаю, возможно, реальная причина такой топографии в том, что большее сооружение воздвигнуть по каким-либо внешним обстоятельствам было нельзя. Но этот «недостаток» тут же обнаруживает свой «сверхматериальный» смысл. Та самая грань между зрителями и действующими лицами пьесы стирается: по существу, на сцене оказываются и те и другие. Нечто подобное происходило в шекспировском «Глобусе». Но в «Особняке» такого внешнего соприсутствия оказывается мало. Зритель здесь втянут в происходящее на сцене гораздо сильнее, нежели только пространственно. Обычная в театре грань между ожиданием начала спектакля, когда зритель чувствует себя «самим по себе», и начавшимся спектаклем здесь тоже отсутствует.
Переступив порог «Особняка», зритель тут же оказывается «внутри спектакля», который на самом деле уже начался до его прихода. Происходит это не потому, что зритель опоздал ко времени его начала, а потому, что прийти заранее и пройти «декомпрессию» зрителю вообще невозможно. Когда первого, загодя пришедшего, желающего попасть в театр, впускают в зал, то там уже звучит фонограмма с записью шума дождя и горят свечи на столе. Тем самым зритель оказывается втянутым не только в пространство, но и в сам медленно разворачивающийся и пока сокрытый смысл мистерии. БЕС-СОН-НИЦЦА - это моноспектакль лишь по внешним признакам. Он начинает играться за полчаса до выхода того самого «моно» актёра. Актёр просто выйдет и объяснит другим участникам, актёрам поневоле, где они находятся, что с ними происходит и что будет дальше. Люди двигают стулья, переговариваются, переходят с одного места на другое, жестикулируют и им кажется, что всё это их частное дело, что в этом они свободны, пока ещё «ничего не началось». Но именно кажется. На самом деле всё уже началось. «Особняк» уже поглотил их и подчинил замыслу творца действия. Они уже не просто те же самые прежние они, естественные, не соотносящиеся с собой, «целенькие» зрители. Они теперь, пусть и бессознательно, играют самих себя. Бессознательно, так как ещё не понимают, что находятся теперь не в помещении театра на Каменностровском проспекте, д.55 в Санкт-Петербурге, а силой театральной магии в сумасшедшем доме в Ницце и что их сюда только что привезли. Но это им сейчас объяснит, наконец, выходящий на сцену актёр, обратившись, нет, не к зрителям, а к окружающим, так сказать, товарищам по несчастью или счастью. «Ну как вам НИцца?» [1, С.323] и далее: «В сумасшедшем доме действительно страшно… Когда ничего не подозревающий человек оказывается в нём первый раз. Ну как вы сейчас» [1, С.325].
Я сообразил всё это не сразу. Сначала меня занял вопрос, так сказать, экономический. Я не мог понять, зачем так щедро расходовать свечи, зажигая их намного раньше начала действия? Ведь напротив, если бы свечи зажёг вышедший актёр, то это могло бы послужить сигналом его начала, что называется, таким «ударом колокола». До меня не сразу дошло, что он, этот колокол, ударил уже давно и я просто не мог его услышать, что сейчас отнюдь не первый день творения, что все начала и концы теперь не только вне моей власти, но и вне моего знания, вне моего ума, на который я уже не могу полагаться. Воистину, таким образом, действительно становится ясно, что не все театры, согласно обычной логике, начинаются с вешалки. В «Особняке» логика иная: сама вешалка начинается со сцены, фактически и находясь на ней, а пользующиеся ею люди, прежде чем снять верхнюю одежду, уже становятся, по сути, актёрами начавшегося спектакля и продолжают быть таковыми даже тогда, когда выход главного героя пьесы привяжет их к своим стульям.
Поскольку речь идёт о сумасшедшем доме, то такой способ фиксации зрителя можно сравнить с применением смирительной рубашки, которая упоминается в самом начале речи «возможно Тоцкого». Но, слава Богу, зритель об этом не догадывается, ведь он думает, что здесь для него разыгрывается некое зрелище, в то время, как на самом деле здесь раздевают его душу, дабы вселенский холод объял её и она таким образом соприкоснулась с реальностью, от приговора которой её может спасти лишь «вино спасительных видений» [1,С. 326]. Но вино - метафора, зримое и помятуемое представление. Реально же спасает скорее «звучание спасительных словес», почерпнутых большей частью из текстов Священного Писания. Сам монолог гипотетического Тоцкого начинается с цитаты из первой главы Книги Бытия. Вообще цитатами из Библии пользовались и пользуются многие. Французский художник Жан Эффель, например, на основе библейского текста создал серию забавных милых картинок под названием: «Сотворение мира». Однако в ситуации героя пьесы они вряд ли способствовали бы необходимому для реализации замысла Клима катарсису. Их назначение в ином, лёгком, житейски простом. Конечно же мы знаем, что спасительные словеса «законно» звучат главным образом на богослужениях в христианских храмах, а также пестрят на страницах всевозможной благочестивой «душеспасительной» литературы или богословских книг. Здесь, кажется, и должно быть их законное место. Все остальные места, в том числе и театральные подмостки, так сказать, к случаю и по ходу дела. Даже романы Достоевского должны здесь уступить первенство, в смысле адекватности применения, литургическому тексту. Поступиться, пожалуй, можно только душеспасительной литературой. Ведь она сама вторична и предназначена для подготовки старушек, находящихся в ожидании, когда будет нужно бросить вязанку хвороста в костёр какого-нибудь новоявленного еретика. В наши дни он оказывается, правда, к удаче для «еретиков», большей частью словесным. Но тут есть одно обстоятельство, значения которого нельзя недооценивать, опять-таки особенно сегодня. Литургический текст привязан к богослужению, что превращает его в обычном восприятии в специальную литературу для особого рода людей, «верующих в Бога», и не имеет доминантного универсального, общекультурного существования. Кроме того, возможно, многие живые и думающие люди оказываются индифферентными к церковному богослужению вследствие того, что можно условно назвать этого богослужения объективностью. «Результативность» происходящего в Церкви субъективна, эмпирически не фиксируема и не переживаема. Итог храмовой молитвы являет себя только на небесах. Поэтому, собственно, к священнику, человеку, возглавляющему литургию, и тем кто на ней присутствует, нельзя предъявить никаких подлежащих проверке требований, включая сам факт личной веры, предполагающих самостоятельное внутреннее усилие, за исключением, пожалуй, внимания и пристойного поведения, ведь благочестивые старушки склонны, например, и поболтать во время «объективно» совершаемого Таинства. Необходимо только, чтобы богослужение совершалось канонически, по установленным правилам. Хотя даже внимание, как считает Симона Вейль, здесь не столь обязательно. «Вещи, относящиеся к религии, - пишет она, - суть вещи ощутимые, определённые, находящиеся в этом мире, - но при этом вещи совершенно чистые. Они чисты не по образу своего собственного существования. Церковь может быть безвкусной, пение фальшивым, священник порочным, а молящиеся рассеянными. В некотором смысле это совершенно неважно… вещи, относящиеся к религии, чисты по праву, теоретически, по допущению, по определению, по соглашению» [2, С.243]. Итак, в церковной практике, всё установлено, оговорено, предрешено именно теоретически. Поэтому и Рождество Иисуса Христа, и Его Воскресение обязательно возвратятся, согласно церковному календарю, к церковному человеку в случае неукоснительного соблюдения правил церковного ритуала. Собственные мысли и переживания каждого участника действия здесь особой роли не играют. Но попробуем перенести созданный Вейль алгоритм на театральную почву и предположить, что интерьер театра безвкусен, пьеса скучна, режиссура слаба, актёр бездарен и явно просто отрабатывает свой номер. Вряд ли кто-то будет гарантировать, что спектакль всё равно будет принят на «ура» или вообще состоится. Скорее, напротив, он априори провалится. В театре реально только то, что понято и пережито каждым присутствующим в зале с подачи действующих лиц. Слово здесь имеет смысл лишь тогда, когда оно из произнесённого актёром становится «моим» словом, когда оно достаёт глубин моего сердца. Потому право произнести само слово «Бог» должно быть завоёвано всем строем чувств и мыслей как драматурга, так и режиссёра, актёров и зрителей. Спасительное слово должно родиться в каждом нашем «я», а не появиться «из машины». Бога надо «произвести» самому! Как у Мандельштама:
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
Потому в театре, настоящем театре, всё «без дураков», здесь уместно только происходящее по гамбургскому счёту. Здесь чистота вещей не предзадана. В священнодействии она предзадана вполне законно, в соответствии с «правилами жанра», там свой гамбургский счёт, но в театральном действии вещи надо «отмывать» самим участникам создания спектакля. Разумеется, я не пытаюсь сказать, что театральный спектакль в плане прочтения библейского текста сегодня «предпочтительнее» церковной литургии. Или их надо как-то «смешать», что в своей практике сегодня небезуспешно для себя делает известный авантюрист от церкви Андрей Ткачёв, используя собственные актёрские способности. Что, кстати, и определяет его популярность у, пусть и немногочисленной, православной молодёжи. Она ждёт чего-то «большего», чем способно дать богослужение и находит его в варварском лицедействе этого «пастыря». Но на самом деле надо просто (что непросто) определить место театра «на дороге к храму», в данном случае различить катехизаторскую функцию, которую, на мой взгляд, выполняет спектакль «Особняка». Не страдающий бессонницей современный человек слишком привык ко всякого рода автоматизмам существования, которые легко переносятся на сакральные предметы, благодаря общей предзаданности и гарантированной чистоте смысла последних. На личные же вопросы надо отвечать по требованиям, предъявляемым именно к тебе лично. Поскольку тема безумия и болезни души центральная в БЕС-СОН-НИЦЦЕ, то её груз и груз её разрешения в «спасительных видениях» тоже ложится на каждого, кто присутствует. Ведь в сумасшедшем доме, в Ницце он находится или не в Ницце (следует, однако, помнить, что описанный в пьесе монастырь мог существовать только в западной Европе), благодаря опять-таки магии театра, оказались теперь все, и необходимую внутреннею работу никто другой за конкретного зрителя-исполнителя не сделает. В этом плане театр есть место исполнения не объективного, а субъективного, где, не будучи задетым происходящим сам, ты ровном счётом ничего не поймёшь из внешних описаний или с «чужих слов». Таких слов здесь вообще быть не должно. Эту работу не делает целиком самостоятельно, а как бы руководит ею в сознании каждого присутствующего актёр Кошкидько в БЕС-СОН-НИЦЦЕ. К богослужению, таким образом, может подступить внутренне подготовленный к его смыслам человек.
В начале моей реплики я обещал подвести к вопросу, который увидел в глазах, словах, действиях этого актёра, но сформулировать его по-прежнему отказываюсь. Здесь важно само, создаваемое Кошкидько, состояние вопрошания, драматической незаконченности жизненной ситуации, отсутствие той самой данности и предзаданности. «Человек сохраняет своё достоинство тогда, - писал А.Блок, - когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к самому себе и другим» [3.С.335]. Иисус Христос предлагает как раз успокоение: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Но Он предлагает успокоение обеспокоенным, реально прошедшим состояние беспокойства. Только для них и требуются спасительные видения или слова. Спокойным успокоение не нужно, они уже сами успокоились и, может быть, даже навсегда. Спящего лучше оставить в его покое; зачем будить его, только для того, чтобы предложить снотворное? Церковь, вообще-то, существует для бодрствующих, а не для спящих, для живых, а не для мёртвых. Но сколько ещё у нас осталось живых и бодрствующих? Если речь идёт о пришедших на спектакль «Особняка», то они всё же наличествуют. Чтобы разбудить человека, надо вовлечь его в бессонницу Разума или душевного беспокойства, скажем, пригласить, внутрь самой БЕС-СОН-НИЦЦЫ и прожить с ним, этим человеком, вместе текст Климова. Только тогда, благодаря подобной среде пребывания, он, возможно, станет способен обрести подлинное успокоение в «Глаголах вечной жизни» (Ин.6:68), который на самом деле есть не остановка на месте, смерть разума, а продвижение на непредставимых скоростях к исполнению его задачи.
Разбором содержания пьесы я заниматься не буду, это вывело бы меня за границы того способа реакции на спектакль, который я счёл для себя возможным. Остановлюсь только на самом конце спектакля в свете сказанного выше о беспокойстве и успокоении, где речь идёт о родителях героя.
они сидели на той же лавочке
шёл снЕг
когда Я
отец поднял глазА
и показал ими, что я должен уйтИ
я ушёл [1, С.386]
Так заканчивается спектакль. Явно не «хеппи энд». Но и вообще не «энд». Но что же тогда дальше, если всё уже закончилось? А дальше тот же «густой туман», который «клубится» впереди и в котором ничего не разглядеть. Однако, всё «раскрученное» раньше не испарилось. «Большая птица» вылетела из клетки, клетка пуста и она позади, хотя, может быть клетка та и золотая, и «по размеру», но о ней не стоит жалеть. И ещё есть тот, который знает, что делать сейчас, пока ещё никто не скрылся в тумане и действие продолжается, он не потерял разума. Он показывает сыну глазами, что тот должен делать по большому счёту. Есть Отец. И знак продолжающейся жизни - «я ушёл». Вот на этом моменте чуть остановиться надо. Если бы окончание предшествующего слова «уйтИ» оторвалось от него и превратилось в союз, то это поколебало бы смысл всего предшествующего бессонного движения. Выражение «Я ушёл» отличается от «И я ушёл». Последнее означает совершенное и совершённоедействие, говорящее о некотором итоге пройденного пути. Оно резонировало бы с началом текста монолога, где употребляются библейские слова «И был вечер. И было утро». В этом случае уход героя был бы окончательным и круг замкнулся бы, безысходность была бы, кроме всего прочего, сакрализована. Но герой просто «ушёл», сделал шаг к бесконечности в неопределённости густого тумана вслед за вылетевшей птицей, и ушёл согласно воле отца. Начало не совпало с концом. Повода для засыпания и умирания нет. Творение не завершено в судьбе как героя пьесы, так и каждого из нас. Тем более, что и сам Ф.М. Достоевский, оказывается, не всё смог сказать в своём объёмистом романе.
Всего достойного говорения о спектакле в коротком отзыве-отклике тоже не скажешь. Важны самые общие вещи. Пусть театр, если он не «Особняк», и начинается с вешалки. Но не лишен смысла в контексте сказанного и вопрос с чего начинается не театр, а тот же христианский храм? Не исключено, что с театра, если он подобен «Театральной мастерской «АСБ» в «Особняке», если в нём можно обрести БЕССОННИЦУ, беспокойство во имя успокоения в «Глаголах вечной жизни». Ведь они существовали уже тогда, когда ни христианских храмов, ни христианских литургий ещё не было. Не было и собственно христианской Церкви. И похоже, что люди, посвятившие жизнь театру, Владимир Клименко, Алексей Янковский и Александр Кошкидько знают о них больше, чем вездесущий дьякон Андрей Кураев или даже сам плодовитый, будем считать, богослов Григорий Валерьевич Алфеев, он же митрополит Иларион. И эту триаду надо превратить в тетрактиду, упомянув директора театра Татьяну Ртищеву. Ведь именно она скорее всего, зажигала свечи и потом курировала ту часть спектакля, встречая пребывающих, которая разыгрывалась до выхода Кошкидько, когда мы, считая себя зрителями, устраивались на своих местах, наивно полагая, что в действительности не помещены в сумасшедший дом и совершенно душевно здоровы. Когда нам ещё не было показано, что душевное здоровье не приобретается по факту рождения и пребывания в мире сем, а обретается в размышлениях и действиях, которые есть «для иудеев соблазн, а для эллинов-безумие» (1.Кор. 1:23). БЕС-СОН-НИЦЦА – точное название и, не следует спорить с тем, что именно бесы часто вызывают беспокойство и способствуют потере сна. Но если говорить об успокоении таких обеспокоенных, то принести его могут только ангелы. Спектакль об этом. Только вот жаль, что не вспоминается такое слово в русском языке, в котором «ангел» составлял бы первый его слог и которое могло бы стать наименованием новой «» пьесы. Пока текст с такой задачей смог быть переданным желающим с ним ознакомиться только в Откровении. Да и роман Ф.М. Достоевского повода за неё взяться не даёт. А может быть, и не жаль совсем.
Однако, всё же попытаюсь сформулировать тот самый вопрос создателей БЕС-СОН-НИЦЦЫ ко мне, не знаю, как его поняли другие. Скорее всего он таков: «Эй, ты жив ещё или уже мёртв, уже спишь или ещё бодрствуешь»? Я закончил.
Используемая литература:
1.Клим. «8 из числа 7» или 7 дней с Идиотом: Несуществующие главы романа
«Идиот» — СПб.: ФМСП «Цитадель», 2021.
2. Вейль Симона. Формы неявной любви к Богу / пер. с фр., предисл., статьи и комм. П. Епифанова (два письма к о. Жозефу-Мари Перрену переведены Н. Ключаревой). — СПб.: Своё издательство, 2012.
3. Блок Александр. «Рваный плащ» Сем-Бенелли. //Блок А. Сочинения: В 2тт. Т.2, М.1955. С.335.