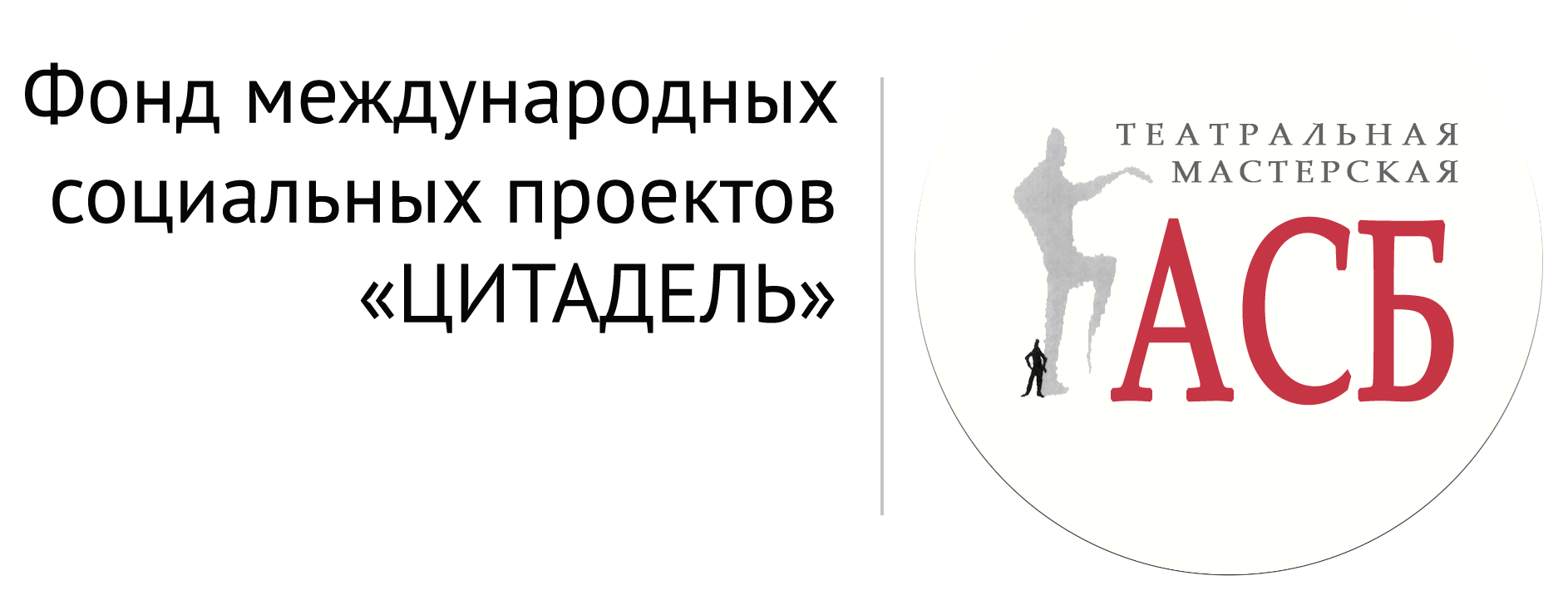«Я хочу завидовать, как Сальери»
Петербургский театральный журнал №28, 2002г.
Алексей Янковский
ВРЕМЯ неумолимо и безжалостно. Оно требует ПЕРЕМЕН. ПЕРЕМЕН тотальных и необратимых, ибо назад дороги нет. Бездна… Бездна, поглотившая весь культурный слой, оставившая нам «только тонкую каемку от земли до кончиков пальцев. Она нам позволяет жить в физическом смысле, но не более того…»
НАДЕЖДА, НАДЕЖДА на невозвращение. ОДНАЖДЫ пойти и не вернуться. Вступить на ПУТЬ. Выйти. Очнуться. Победить Страх и снова ощутить Трепет. Примерить новый костюм, построить корабль, закрыть Дом. Взять каждой твари по паре. И без рассуждения об идеальном, оттолкнувшись от Прошлого, попытаться заглянуть в Будущее.
Сейчас актер тот, кто способен на Монолог. Диалога с залом больше не существует. Народ безмолвствует. Он не может тебе ответить. С ним надо говорить очень сильно, потоком. Если у тебя есть мужество встать, выделиться из Хора (московского или питерского — неважно), стать протагонистом — значит ты выстоишь. Значит ты способен. Это противостояние. Это великое противостояние. Противостояние уходящего и приходящего. Грядущего. То, что называют пиром во время чумы. Чума — по Арто — болезнь информационная. Нет историй, с которыми можно выйти к публике.
Происходящее в театрах — ужасно. Там — Чума. Актеры заражают своими историями публику, публика заражает своими историями актеров. Чума… Нужно на какое-то время изолировать: публику от актеров, актеров от публики. Актеры должны научиться рассказывать новые истории, «как в тысяча и одной ночи». «Им пора становиться Великими Гарриками». «Чтобы новые земли и новые звери вышли тебе навстречу».
Как у Платона: «Чтобы жить достойно и не быть приниженным и раздавленным мировой необходимостью, социальной обыденностью, необходимо в творческом подъеме выйти из имманентного круга действительности, необходимо вызвать образ, вообразить иной мир, новый по сравнению с этой мировой действительностью — новое небо и новую землю».
А они играют такие неинтересные истории и так неинтересно, что не только Небо, а даже двое у пивного ларька не обратят на них внимания.
Я перед спектаклем всегда говорю актерами — не ждите никакого отклика из зала, не ждите. Они пришли вас съесть. Вы должны так быстро пробежать или так стоять перед хищными зверями, чтоб они сказали: тала-а-ант… Как в мультфильме, где волчок выслеживал цаплю, она на болоте пела и плясала, он наконец поймал ее, она ему говорит: «Волчок! Можно я допою и дотанцую?» Он говорит: «Ну давай». И она стала петь, танцевать, потом взяла и улетела. Он смотрит ей вслед и говорит: «Талаа-ант…» Талант — это мужество. Это танец на грани жизни и смерти.
Сейчас попасть на территорию ИГРЫ очень сложно. Это как пройти сквозь игольное ушко. Сейчас там очень узкое пространство. Туда не пролезть совсем. Раньше в спектаклях пространство расширялось: ты бежал, а оно расширялось А теперь все сужается и сужается… Я, когда смотрю на Лыкова, как он бежит — когда правильно бежит — это очень сложно, — я вижу, как он иногда крылья об скалы бьет… потом вдруг происходит такой эффект, когда он уходит в игольное ушко. Все. Он недосягаем для зрителя. «Миссия выполнима». Дальше он может говорить все что угодно. Без этого старта невозможно. Потому что все, что сейчас удобоваримо, зритель «будет хавать». Смотреть не будет, он просто все схавает. С территории сельского хозяйства — прямо на кухню. Нет! Зритель должен видеть, как растет трава, а не укроп в салате. И он должен поиметь к этому уважение. Он не должен это тронуть! Это и есть выиграть жизнь на сцене. Это даст тебе… Денег все равно не даст, нет, но ты выиграешь энергию. Возможность прожить завтрашний день. А они играют такие спектакли, которые не дают им жизни на завтра. Завтра чем ты будешь жить? Ну, хлеба не будет, а так и энергии еще не будет. Сейчас все заняты хлебом. Но они не понимают, что не хлебом единым. Потому что хлеб берется оттуда. Манна небесная. Строительство… Воспроизводство. Но как его построить? Ноев ковчег… Как спасти живое? Как уехать на остров, чтобы там снова зародилась жизнь? Чтобы любили друг друга? В театре сейчас нет любви, там даже ненависти нет. Нет чувств, нет жизни. Нас же всех тошнит. Ну давайте честно признаемся себе в этом. Может, это и будет первым шагом к идеальному…
Может, мы снова вернемся наконец-то к ПРОФЕССИИ, победив свой страх перед ней.
Человек рождается с сущностью. А благодаря тому, что он рождается лицом — в свою семью, в свой класс, в свое общество, — выращивается личность. Личина — это такая социальная маска, искусственная структура, выращенная. С помощью этой маски человек живет в данном времени. Меняется время, должны меняться маски. Но! Жизнь трагична, ибо не предполагает смену Маски. Ее смена — это очень долгий и трагичный процесс для целого поколения, живущего в ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Человек не успевает за переменами социума. Маска не желает смириться, она как бы продолжает смотреть в прошлое, она продолжает жить в другом времени. Чтобы увидеть будущее, нужно сменить маску. Сейчас все попытки обратиться к личности человека тщетны. Он потерял целостность. Размылись все границы. И только страх не позволяет шагнуть человеку дальше и сменить маску. Поэтому я пытаюсь обращаться к его аналитическому, то есть незаинтересованному уму, то есть к его сущности. Чтобы посадить туда зерно, чтобы в какой-то момент это спасло ему жизнь. Время сейчас предъявляет другие требования. А человек не выдерживает. Кто способен. Кому дано…
Сейчас очень тяжелое время для актеров и режиссеров и замечательное для Художников. Надо заново учиться жить. В жизни, в профессия. Неважно… Учиться — это значит открывать заново. Очень, между прочим, трудный процесс для личности.
Почему я занимаюсь театром?
Потому что я очень боюсь потерять профессию. Я каждый день встаю и заставляю себя заниматься театром. Неважно где. Я боюсь потерять профессию. В этой стране уже каждый второй ее потерял. Я хочу, чтобы у меня было будущее.
Сейчас никто ничего не определяет. Каждый решает за себя. Вот я сказал, что это так. И стало так.
«Сказал человек: „Бог есть". Вроде как и есть… Сказал человек: „Бога нет". Вроде как и нет. А есть он или нет, одному ему, Богу, и известно».
Что ты говоришь, то и есть.
Вот приехал Вайткус. Такое впечатление, что я знаю его лет двадцать. Мне не важно, что он делает. Мне не важно, какой будет спектакль. Я смотрю, как человек с мировым именем выкручивается в нынешней ситуации, я иду получать урок. Я иду к нему на репетиции за жизненным уроком. Это же и есть школа (шкала) мужества. У него же больше опыта, чем у меня. Как он… Он же все равно останется живым. Я смотрю, как он выживает.
Я так не умею. Я долго с актерами говорю. Я долго с актерами разговариваю. Я выговариваю цель. И когда я понимаю, что у него нет той цели, которая нужна мне, мы не работаем. Сейчас время местечковости, компаний и друзей прошло. Всё! А как? А так. Взорвать театр и все. Стафиллокок! Как с родильными домами поступают в Швеции. Лет двадцать на этом месте ничего не строят…
Есть люди, в которых просыпается какая-то жизнь только тогда, когда есть конфликт. Но я не хочу конфликтовать. Я не хочу кормить своей энергией других. Я вообще сейчас ухожу от конфликтов. Я конфликтую только с актерами, которые сами хотят. Я могу на них орать. Это им надо. Чтобы человек двигался. У Клима была статья какая-то классная. Человек бежит стометровку за 12 секунд. Такая у него подготовка. Ну условно. Он приходит в театр. А в театре бегают стометровку за 25 секунд. Все. Такой там у всех уровень. Через неделю он бежит стометровку за 16 секунд. Через две — за 20. Через месяц он бежит за 25. И даже уже не понимает, как он бегал за 12. Потом снижается общий уровень. Актер уже никуда не бежит. И тогда приглашают режиссера, который ставит их на круг, чтобы хоть какое-то движение было, — и возит. И создается иллюзия жизни — это и есть режиссура. Актеры уже не ходят в театре — их надо возить, их надо придумывать. Как их повезти получше. Как веревки прицепить, чтобы лучше двигались. Это уже почти кукольный театр. Ну, неприятно ж в морге находиться. Или в клинике. Вот пошлют тебя в морг поработать — через полгода ты будешь иметь такой же вид, как у твоих клиентов.
Язык, на котором я говорю, он, наверное, не всем понятен. Да, это есть защита. А он не всем нужен. Зачем всем! Это и есть защита. Мне очень нравится, что меня всерьез не воспринимают. Это мне дает возможность двигаться. Это возможность двигаться. Если я попаду сейчас в обойму, мне конец. Я еще не готов. Меня спасает. Хорошо, что тогда Золотой софит мы не получили. И я не завизжал от успеха. И не бросился петь песни. Это ж неизвестно, как человек себя поведет. Потому что успех сейчас — относительное понятие. И очень опасное. Почему с Лыковым можно работать — он пережил что-то. Кто-то там сказал что-то про звездную болезнь. Звездная болезнь, Лыков говорит, — это цветочки. Дальше начинается такое… Такое… Рассуждения о судьбе Родины. Твоя фигура в центре мира. Звездная болезнь задела крылом, помните, как ангел в «Жертвоприношении», когда почтальон-немец падает, его спрашивают: что это? А он говорит: Ангел задел меня крылом. Так и с Лыковым. Он говорит: «Со мной только пошутили — я все понял». Он же работает как собака. У него съемки, репетиции, он два спектакля играет, он включился. Он понимает, что он должен сейчас выиграть жизнь — он чуть ее не потерял. А они все… Я вообще хотел бы эти два спектакля «Я… Она… Не Я и Я» и «АСБ» играть в театрах для актеров. Это такая акция по спасению жизни.
Вчера один из руководителей театра увидел меня за кулисами, испугался — а что вы тут делаете? Я сказал, что пришел на своего кумира посмотреть. Они не понимают, что я не конкурент, что я не хочу. Их денег не хочу. Я хочу других денег. На дело — деньги приходят. Ты же говоришь — хочу что-то сделать, да? Тебе говорят — но только вот так, в таких условиях. Поменяются у тебя условия — ты и сделать ничего не сможешь. На хрена мне все это надо. Ну, стеклопакеты, ну машина — жизни нет. Жизни нет! И в казино жизни нет. Меня Лыков поводил по злачным местам. Он мне хорошую школу устроил. Мы были — ну нету там жизни. Но у бандитов мне больше нравится — там ясные какие-то правила. Там тебя не тронут. Очень ясные правила. Хочу ясности… Ясности хочу!.
Хочу манифест. Надо украсть строчку — «билет в одну сторону». Хочу исчезнуть. Раньше актер играл в театре — он делал карьеру, сейчас невозможно в театре сделать карьеру. Сейчас карьеру нужно делать в мире. В жизни. Жизнь отвернулась сейчас от театра. Она ушла из него.
Раньше популярный артист не вызывал сомнений. Это была величина. Это была связь с жизнью. Творческие встречи были целым актом. А сейчас выпили по рюмке, забыли, что ты знаменитый артист, нет этой фабрики воздуха. Нет этого производства. Раньше — если ты общался, получал что-нибудь. А сейчас — ну, назови, с кем ты хочешь пообщаться. Пойдем, я тебя, скажем, с тем-то познакомлю. Что, бросаем все и идем?! Что, мы сейчас побежим?! Вот мы идем, висит афиша. Васильев. Стоимость 50 долларов. Я что, куплю билет?! Конечно, не куплю. Вот и вся великая сила искусства. А вот на Полунина пойду не задумываясь. У меня не мания. Я хочу ходить в театр и завидовать. Завидовать «глыбоко». Завидовать, как Сальери. Я стоял на балконе на спектакле Полунина «Snow show» и плакал. И от полноты чувств про себя говорил «Сука! Сука!» Он меня так сделал, при моем цинизме… Я был счастлив… Я тут же побежал, собрал детей всех знакомых, каких мог, чтобы они посмотрели, что есть — театр, есть — цирк, есть жизнь… Это же энергия, в конце концов. Ее надо завозить, «как Свет и Чистый воздух», иначе задохнемся, утонем в собственном дерьме. Если бы я был мэром города, я бы привозил эту энергию, ну, в лице Полунина, скажем. Есть такая игра компьютерная, я не помню, как называется, где надо строить города. Так вот там у тебя войско не будет воевать, если ты культурный центр не построишь. А в жизни они не понимают, что это необходимо. Я бы цены сделал по пятнадцать рублей, я бы заплатил Полунину. Чтобы все, кто хотел, смогли попасть. А сейчас и в жизни и в театре идет колоссальное разрушение. В театр призваны люди, чтобы его развалить, разрушить. Это нормальный процесс для сегодняшнего времени. Ибо одно не родится прежде другого. «История творится чередой потерь». Что-то должно уйти до конца. Театр снова должен быть востребован жизнью.
Я ставил в Чернигове спектакль, меня спрашивали, о чем спектакль «Ромео и Джульетта», когда они за Париса выдают Джульетту, и отец говорит: «Бегите, с другими внуками вернитесь. От стен, пропитанных враждой. Бегите». Но, в отличие от людей, нам некуда бежать. Мы уже на месте. Мы в Театре. Это сильное место. Это место, откуда можно ГОВОРИТЬ. Как священник может сказать прихожанам — враг идет, нашествие, и поп говорит: бегите, я дождусь вас. Я сохраню иконы, я попрячу все, спасайте жизнь, бегите. Сейчас сделать ничего нельзя, сейчас можно только сохранить. Для будущего. Воспоминание о Будущем. «Я не поэт, я только переписчик в Храме». Все равно будет жизнь. Но детям нужно сказать, чтобы они сейчас бежали. Все равно они вернутся. Пусть уезжают в Америку, пусть уезжают куда угодно, все равно они вернутся. Ну внуки их вернутся. Корни-то все равно здесь. Надо бежать, чтобы спасти детей. Моя дочь в Хорватии, я не хочу, чтоб она возвращалась. Пока. А здесь — пока — вот такая будет жизнь. Тут даже марихуаной ничего не сделаешь. Не уберешь эту действительность.
Детям нужно бежать, нужно расширять мир. Пусть строят корабли. Вот дети, которые сейчас рождаются, они еще не жили при государстве. Пусть поедут в чужие государства. Пусть посмотрят. «Распалась связь времен».
Актер, который несчастен, счастья зрителю принести не может. Ну как я могу принести счастье, если я сам несчастен? На сцене. Я могу только принести всем несчастье. Ну не хочу я сочувствовать их горю. Пушкин написал: «Ужасный век, ужасные сердца». Сейчас нужно не любить, а ненавидеть. Это одно и то же. Я говорю Лыкову — ненавидь публику. Будут любить. «Чего пришли! Зачем? На нос мой посмотреть? Смотрите!»
Диалог моих актеров. Слышу такую реплику: «Ну вот, пока Янковский парит тебе мозги, ты будешь играть».
Да, я буду ему «парить» и вкладывать в него. Заряжаешь человека, пока его мотор не начинает работать сам. Зажигание. Но я прикуриваю то, что прикуривается. Мертвые к мертвым, живые к живым. Вот то, что я умею, — я могу очень сильно прикурить. Очень сильно.
Философия закончилась. Должно быть движение. Пустота. И движение. Надо научиться двигаться в пустоте. Как у Аристотеля: смысл человеческой жизни в движении, цель человеческой жизни — счастье, то есть, чтобы человек ни делал, где бы ни находился, он обязан быть счастливым. Жизнь — игра. Надоела старая — придумай новую. Как в сексе: надоело — поменяй позу.
У актеров же сейчас нет пафоса. И патриотизма тоже нет. Как я не мог в Чернигове объяснить актеру, как читать монолог. Долго не мог, неделю. Вдруг он спрашивает: «Так вы хотите, чтобы я патриотично читал?» Я говорю: «Да!» И он прочитал! И это просто классно! Надо перестать бояться пафоса и патриотизма, потому что это все божественные понятия. Эпос. Пафос. Да, я очень пафосный человек. И все мои спектакли очень пафосные. Патриотичные, пафосные — мне очень нравятся эти слова. Для меня человек, 24 часа в сутки не говорящий о театре, не является профессионалом. Шоферы же, когда собираются, они же только о профессии и говорят — о запчастях, там, карданный вал, то, се. А сейчас о чем с актерами говорить? Они не говорят о театре. Они его боятся. Страх. Сейчас везде. Как Воланд говорит — то, чем пользуется сатана. Чтобы завладеть человеком, он вызывает в нем страх. Любыми способами. Или действиями. Только в человеке появляется запах страха, тут же появляется вся компания. И начинает крутить человека по полной программе. Ну по полной. И человека в жизни так раскручивают…
Сейчас время, когда нужно ненавидеть людей. Хоть будут какие-то чувства. Потому что на сегодняшний день любовь приводит к такой ненависти. Не осталось любви, осталось лишь наше представление о ней. Сейчас публику нужно ненавидеть. Тогда публика тебя будет любить. Потому что она потеряла сильного лидера в лице государства. И она хочет куда-то переместить эту свою зависимость. Ей все равно куда — в церковь, в театр… Россия же страна рабов!
Ну как! Ты же не можешь подарить рабам свободу. Как в анекдоте — славянский народ был очень свободолюбивым народом. Иногда их угоняли в рабство. Но даже и там они не работали. Ну как рабам можно подарить свободу? Рабство поголовное. «Мы хотим сами все определять». Ну выйдите на сцену, определите, вы же боролись! Боролись за свободу — живите, будьте счастливы, если можете.
Мне гораздо интереснее смотреть, как два человека по намыленному столбу пытаются залезть на небеса. И когда они лезут, я сижу, как зритель, и откуда-то мысли приходят — я многое понимаю. Я сам туда не полезу. Зачем туда лазить, если эти два придурка… И два придурка — мир, смотря как посмотреть. Дело не в предмете, дело во взгляде. Актеру сейчас нужен новый взгляд на жизнь.
Актеры неправильно смотрят. Была там, скажем, пустыня, люди привыкли жить в пустыне. Ну как-то приспособились. Жили. И вдруг все это заполнила вода. Изменениям необратимым — сопротивление бессмысленно. Ну это грубые примеры. Как в Африке. Приходит засуха. И если ты не знаешь, где находятся незасохшие источники, ты обречен. Если не доживешь до сезона дождей, ты умрешь. А как нужно искать воду? Все время идти. Двигаться. Может быть, наткнешься. А если останавливаешься, у тебя даже нет шанса спастись. При движении — может быть! Ну так же бывает, вода в двух метрах! И хорошо, что меня мало кто понимает, потому что я должен закрыть свои источники. Потому что — а мне откуда?
У Клима «Театр — последнее прибежище человека».
Мы играем это как манифест. Это и есть манифест.
Актер — это человек, способный одухотворить любой текст. Это очень важный момент.
Так сказать, чтобы пространство — а не публика — отозвалось на каждое слово. Это заговор пространства. Я заряжаю, завожу пространство, которое уже берет за горло публику. Оно, заряженное, подкрадывается к зрителю сзади и… Позвоночник высыпается в трусы.
2002г.
Петербургский театральный журнал №28, 2002г.
Алексей Янковский
ВРЕМЯ неумолимо и безжалостно. Оно требует ПЕРЕМЕН. ПЕРЕМЕН тотальных и необратимых, ибо назад дороги нет. Бездна… Бездна, поглотившая весь культурный слой, оставившая нам «только тонкую каемку от земли до кончиков пальцев. Она нам позволяет жить в физическом смысле, но не более того…»
НАДЕЖДА, НАДЕЖДА на невозвращение. ОДНАЖДЫ пойти и не вернуться. Вступить на ПУТЬ. Выйти. Очнуться. Победить Страх и снова ощутить Трепет. Примерить новый костюм, построить корабль, закрыть Дом. Взять каждой твари по паре. И без рассуждения об идеальном, оттолкнувшись от Прошлого, попытаться заглянуть в Будущее.
Сейчас актер тот, кто способен на Монолог. Диалога с залом больше не существует. Народ безмолвствует. Он не может тебе ответить. С ним надо говорить очень сильно, потоком. Если у тебя есть мужество встать, выделиться из Хора (московского или питерского — неважно), стать протагонистом — значит ты выстоишь. Значит ты способен. Это противостояние. Это великое противостояние. Противостояние уходящего и приходящего. Грядущего. То, что называют пиром во время чумы. Чума — по Арто — болезнь информационная. Нет историй, с которыми можно выйти к публике.
Происходящее в театрах — ужасно. Там — Чума. Актеры заражают своими историями публику, публика заражает своими историями актеров. Чума… Нужно на какое-то время изолировать: публику от актеров, актеров от публики. Актеры должны научиться рассказывать новые истории, «как в тысяча и одной ночи». «Им пора становиться Великими Гарриками». «Чтобы новые земли и новые звери вышли тебе навстречу».
Как у Платона: «Чтобы жить достойно и не быть приниженным и раздавленным мировой необходимостью, социальной обыденностью, необходимо в творческом подъеме выйти из имманентного круга действительности, необходимо вызвать образ, вообразить иной мир, новый по сравнению с этой мировой действительностью — новое небо и новую землю».
А они играют такие неинтересные истории и так неинтересно, что не только Небо, а даже двое у пивного ларька не обратят на них внимания.
Я перед спектаклем всегда говорю актерами — не ждите никакого отклика из зала, не ждите. Они пришли вас съесть. Вы должны так быстро пробежать или так стоять перед хищными зверями, чтоб они сказали: тала-а-ант… Как в мультфильме, где волчок выслеживал цаплю, она на болоте пела и плясала, он наконец поймал ее, она ему говорит: «Волчок! Можно я допою и дотанцую?» Он говорит: «Ну давай». И она стала петь, танцевать, потом взяла и улетела. Он смотрит ей вслед и говорит: «Талаа-ант…» Талант — это мужество. Это танец на грани жизни и смерти.
Сейчас попасть на территорию ИГРЫ очень сложно. Это как пройти сквозь игольное ушко. Сейчас там очень узкое пространство. Туда не пролезть совсем. Раньше в спектаклях пространство расширялось: ты бежал, а оно расширялось А теперь все сужается и сужается… Я, когда смотрю на Лыкова, как он бежит — когда правильно бежит — это очень сложно, — я вижу, как он иногда крылья об скалы бьет… потом вдруг происходит такой эффект, когда он уходит в игольное ушко. Все. Он недосягаем для зрителя. «Миссия выполнима». Дальше он может говорить все что угодно. Без этого старта невозможно. Потому что все, что сейчас удобоваримо, зритель «будет хавать». Смотреть не будет, он просто все схавает. С территории сельского хозяйства — прямо на кухню. Нет! Зритель должен видеть, как растет трава, а не укроп в салате. И он должен поиметь к этому уважение. Он не должен это тронуть! Это и есть выиграть жизнь на сцене. Это даст тебе… Денег все равно не даст, нет, но ты выиграешь энергию. Возможность прожить завтрашний день. А они играют такие спектакли, которые не дают им жизни на завтра. Завтра чем ты будешь жить? Ну, хлеба не будет, а так и энергии еще не будет. Сейчас все заняты хлебом. Но они не понимают, что не хлебом единым. Потому что хлеб берется оттуда. Манна небесная. Строительство… Воспроизводство. Но как его построить? Ноев ковчег… Как спасти живое? Как уехать на остров, чтобы там снова зародилась жизнь? Чтобы любили друг друга? В театре сейчас нет любви, там даже ненависти нет. Нет чувств, нет жизни. Нас же всех тошнит. Ну давайте честно признаемся себе в этом. Может, это и будет первым шагом к идеальному…
Может, мы снова вернемся наконец-то к ПРОФЕССИИ, победив свой страх перед ней.
Человек рождается с сущностью. А благодаря тому, что он рождается лицом — в свою семью, в свой класс, в свое общество, — выращивается личность. Личина — это такая социальная маска, искусственная структура, выращенная. С помощью этой маски человек живет в данном времени. Меняется время, должны меняться маски. Но! Жизнь трагична, ибо не предполагает смену Маски. Ее смена — это очень долгий и трагичный процесс для целого поколения, живущего в ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Человек не успевает за переменами социума. Маска не желает смириться, она как бы продолжает смотреть в прошлое, она продолжает жить в другом времени. Чтобы увидеть будущее, нужно сменить маску. Сейчас все попытки обратиться к личности человека тщетны. Он потерял целостность. Размылись все границы. И только страх не позволяет шагнуть человеку дальше и сменить маску. Поэтому я пытаюсь обращаться к его аналитическому, то есть незаинтересованному уму, то есть к его сущности. Чтобы посадить туда зерно, чтобы в какой-то момент это спасло ему жизнь. Время сейчас предъявляет другие требования. А человек не выдерживает. Кто способен. Кому дано…
Сейчас очень тяжелое время для актеров и режиссеров и замечательное для Художников. Надо заново учиться жить. В жизни, в профессия. Неважно… Учиться — это значит открывать заново. Очень, между прочим, трудный процесс для личности.
Почему я занимаюсь театром?
Потому что я очень боюсь потерять профессию. Я каждый день встаю и заставляю себя заниматься театром. Неважно где. Я боюсь потерять профессию. В этой стране уже каждый второй ее потерял. Я хочу, чтобы у меня было будущее.
Сейчас никто ничего не определяет. Каждый решает за себя. Вот я сказал, что это так. И стало так.
«Сказал человек: „Бог есть". Вроде как и есть… Сказал человек: „Бога нет". Вроде как и нет. А есть он или нет, одному ему, Богу, и известно».
Что ты говоришь, то и есть.
Вот приехал Вайткус. Такое впечатление, что я знаю его лет двадцать. Мне не важно, что он делает. Мне не важно, какой будет спектакль. Я смотрю, как человек с мировым именем выкручивается в нынешней ситуации, я иду получать урок. Я иду к нему на репетиции за жизненным уроком. Это же и есть школа (шкала) мужества. У него же больше опыта, чем у меня. Как он… Он же все равно останется живым. Я смотрю, как он выживает.
Я так не умею. Я долго с актерами говорю. Я долго с актерами разговариваю. Я выговариваю цель. И когда я понимаю, что у него нет той цели, которая нужна мне, мы не работаем. Сейчас время местечковости, компаний и друзей прошло. Всё! А как? А так. Взорвать театр и все. Стафиллокок! Как с родильными домами поступают в Швеции. Лет двадцать на этом месте ничего не строят…
Есть люди, в которых просыпается какая-то жизнь только тогда, когда есть конфликт. Но я не хочу конфликтовать. Я не хочу кормить своей энергией других. Я вообще сейчас ухожу от конфликтов. Я конфликтую только с актерами, которые сами хотят. Я могу на них орать. Это им надо. Чтобы человек двигался. У Клима была статья какая-то классная. Человек бежит стометровку за 12 секунд. Такая у него подготовка. Ну условно. Он приходит в театр. А в театре бегают стометровку за 25 секунд. Все. Такой там у всех уровень. Через неделю он бежит стометровку за 16 секунд. Через две — за 20. Через месяц он бежит за 25. И даже уже не понимает, как он бегал за 12. Потом снижается общий уровень. Актер уже никуда не бежит. И тогда приглашают режиссера, который ставит их на круг, чтобы хоть какое-то движение было, — и возит. И создается иллюзия жизни — это и есть режиссура. Актеры уже не ходят в театре — их надо возить, их надо придумывать. Как их повезти получше. Как веревки прицепить, чтобы лучше двигались. Это уже почти кукольный театр. Ну, неприятно ж в морге находиться. Или в клинике. Вот пошлют тебя в морг поработать — через полгода ты будешь иметь такой же вид, как у твоих клиентов.
Язык, на котором я говорю, он, наверное, не всем понятен. Да, это есть защита. А он не всем нужен. Зачем всем! Это и есть защита. Мне очень нравится, что меня всерьез не воспринимают. Это мне дает возможность двигаться. Это возможность двигаться. Если я попаду сейчас в обойму, мне конец. Я еще не готов. Меня спасает. Хорошо, что тогда Золотой софит мы не получили. И я не завизжал от успеха. И не бросился петь песни. Это ж неизвестно, как человек себя поведет. Потому что успех сейчас — относительное понятие. И очень опасное. Почему с Лыковым можно работать — он пережил что-то. Кто-то там сказал что-то про звездную болезнь. Звездная болезнь, Лыков говорит, — это цветочки. Дальше начинается такое… Такое… Рассуждения о судьбе Родины. Твоя фигура в центре мира. Звездная болезнь задела крылом, помните, как ангел в «Жертвоприношении», когда почтальон-немец падает, его спрашивают: что это? А он говорит: Ангел задел меня крылом. Так и с Лыковым. Он говорит: «Со мной только пошутили — я все понял». Он же работает как собака. У него съемки, репетиции, он два спектакля играет, он включился. Он понимает, что он должен сейчас выиграть жизнь — он чуть ее не потерял. А они все… Я вообще хотел бы эти два спектакля «Я… Она… Не Я и Я» и «АСБ» играть в театрах для актеров. Это такая акция по спасению жизни.
Вчера один из руководителей театра увидел меня за кулисами, испугался — а что вы тут делаете? Я сказал, что пришел на своего кумира посмотреть. Они не понимают, что я не конкурент, что я не хочу. Их денег не хочу. Я хочу других денег. На дело — деньги приходят. Ты же говоришь — хочу что-то сделать, да? Тебе говорят — но только вот так, в таких условиях. Поменяются у тебя условия — ты и сделать ничего не сможешь. На хрена мне все это надо. Ну, стеклопакеты, ну машина — жизни нет. Жизни нет! И в казино жизни нет. Меня Лыков поводил по злачным местам. Он мне хорошую школу устроил. Мы были — ну нету там жизни. Но у бандитов мне больше нравится — там ясные какие-то правила. Там тебя не тронут. Очень ясные правила. Хочу ясности… Ясности хочу!.
Хочу манифест. Надо украсть строчку — «билет в одну сторону». Хочу исчезнуть. Раньше актер играл в театре — он делал карьеру, сейчас невозможно в театре сделать карьеру. Сейчас карьеру нужно делать в мире. В жизни. Жизнь отвернулась сейчас от театра. Она ушла из него.
Раньше популярный артист не вызывал сомнений. Это была величина. Это была связь с жизнью. Творческие встречи были целым актом. А сейчас выпили по рюмке, забыли, что ты знаменитый артист, нет этой фабрики воздуха. Нет этого производства. Раньше — если ты общался, получал что-нибудь. А сейчас — ну, назови, с кем ты хочешь пообщаться. Пойдем, я тебя, скажем, с тем-то познакомлю. Что, бросаем все и идем?! Что, мы сейчас побежим?! Вот мы идем, висит афиша. Васильев. Стоимость 50 долларов. Я что, куплю билет?! Конечно, не куплю. Вот и вся великая сила искусства. А вот на Полунина пойду не задумываясь. У меня не мания. Я хочу ходить в театр и завидовать. Завидовать «глыбоко». Завидовать, как Сальери. Я стоял на балконе на спектакле Полунина «Snow show» и плакал. И от полноты чувств про себя говорил «Сука! Сука!» Он меня так сделал, при моем цинизме… Я был счастлив… Я тут же побежал, собрал детей всех знакомых, каких мог, чтобы они посмотрели, что есть — театр, есть — цирк, есть жизнь… Это же энергия, в конце концов. Ее надо завозить, «как Свет и Чистый воздух», иначе задохнемся, утонем в собственном дерьме. Если бы я был мэром города, я бы привозил эту энергию, ну, в лице Полунина, скажем. Есть такая игра компьютерная, я не помню, как называется, где надо строить города. Так вот там у тебя войско не будет воевать, если ты культурный центр не построишь. А в жизни они не понимают, что это необходимо. Я бы цены сделал по пятнадцать рублей, я бы заплатил Полунину. Чтобы все, кто хотел, смогли попасть. А сейчас и в жизни и в театре идет колоссальное разрушение. В театр призваны люди, чтобы его развалить, разрушить. Это нормальный процесс для сегодняшнего времени. Ибо одно не родится прежде другого. «История творится чередой потерь». Что-то должно уйти до конца. Театр снова должен быть востребован жизнью.
Я ставил в Чернигове спектакль, меня спрашивали, о чем спектакль «Ромео и Джульетта», когда они за Париса выдают Джульетту, и отец говорит: «Бегите, с другими внуками вернитесь. От стен, пропитанных враждой. Бегите». Но, в отличие от людей, нам некуда бежать. Мы уже на месте. Мы в Театре. Это сильное место. Это место, откуда можно ГОВОРИТЬ. Как священник может сказать прихожанам — враг идет, нашествие, и поп говорит: бегите, я дождусь вас. Я сохраню иконы, я попрячу все, спасайте жизнь, бегите. Сейчас сделать ничего нельзя, сейчас можно только сохранить. Для будущего. Воспоминание о Будущем. «Я не поэт, я только переписчик в Храме». Все равно будет жизнь. Но детям нужно сказать, чтобы они сейчас бежали. Все равно они вернутся. Пусть уезжают в Америку, пусть уезжают куда угодно, все равно они вернутся. Ну внуки их вернутся. Корни-то все равно здесь. Надо бежать, чтобы спасти детей. Моя дочь в Хорватии, я не хочу, чтоб она возвращалась. Пока. А здесь — пока — вот такая будет жизнь. Тут даже марихуаной ничего не сделаешь. Не уберешь эту действительность.
Детям нужно бежать, нужно расширять мир. Пусть строят корабли. Вот дети, которые сейчас рождаются, они еще не жили при государстве. Пусть поедут в чужие государства. Пусть посмотрят. «Распалась связь времен».
Актер, который несчастен, счастья зрителю принести не может. Ну как я могу принести счастье, если я сам несчастен? На сцене. Я могу только принести всем несчастье. Ну не хочу я сочувствовать их горю. Пушкин написал: «Ужасный век, ужасные сердца». Сейчас нужно не любить, а ненавидеть. Это одно и то же. Я говорю Лыкову — ненавидь публику. Будут любить. «Чего пришли! Зачем? На нос мой посмотреть? Смотрите!»
Диалог моих актеров. Слышу такую реплику: «Ну вот, пока Янковский парит тебе мозги, ты будешь играть».
Да, я буду ему «парить» и вкладывать в него. Заряжаешь человека, пока его мотор не начинает работать сам. Зажигание. Но я прикуриваю то, что прикуривается. Мертвые к мертвым, живые к живым. Вот то, что я умею, — я могу очень сильно прикурить. Очень сильно.
Философия закончилась. Должно быть движение. Пустота. И движение. Надо научиться двигаться в пустоте. Как у Аристотеля: смысл человеческой жизни в движении, цель человеческой жизни — счастье, то есть, чтобы человек ни делал, где бы ни находился, он обязан быть счастливым. Жизнь — игра. Надоела старая — придумай новую. Как в сексе: надоело — поменяй позу.
У актеров же сейчас нет пафоса. И патриотизма тоже нет. Как я не мог в Чернигове объяснить актеру, как читать монолог. Долго не мог, неделю. Вдруг он спрашивает: «Так вы хотите, чтобы я патриотично читал?» Я говорю: «Да!» И он прочитал! И это просто классно! Надо перестать бояться пафоса и патриотизма, потому что это все божественные понятия. Эпос. Пафос. Да, я очень пафосный человек. И все мои спектакли очень пафосные. Патриотичные, пафосные — мне очень нравятся эти слова. Для меня человек, 24 часа в сутки не говорящий о театре, не является профессионалом. Шоферы же, когда собираются, они же только о профессии и говорят — о запчастях, там, карданный вал, то, се. А сейчас о чем с актерами говорить? Они не говорят о театре. Они его боятся. Страх. Сейчас везде. Как Воланд говорит — то, чем пользуется сатана. Чтобы завладеть человеком, он вызывает в нем страх. Любыми способами. Или действиями. Только в человеке появляется запах страха, тут же появляется вся компания. И начинает крутить человека по полной программе. Ну по полной. И человека в жизни так раскручивают…
Сейчас время, когда нужно ненавидеть людей. Хоть будут какие-то чувства. Потому что на сегодняшний день любовь приводит к такой ненависти. Не осталось любви, осталось лишь наше представление о ней. Сейчас публику нужно ненавидеть. Тогда публика тебя будет любить. Потому что она потеряла сильного лидера в лице государства. И она хочет куда-то переместить эту свою зависимость. Ей все равно куда — в церковь, в театр… Россия же страна рабов!
Ну как! Ты же не можешь подарить рабам свободу. Как в анекдоте — славянский народ был очень свободолюбивым народом. Иногда их угоняли в рабство. Но даже и там они не работали. Ну как рабам можно подарить свободу? Рабство поголовное. «Мы хотим сами все определять». Ну выйдите на сцену, определите, вы же боролись! Боролись за свободу — живите, будьте счастливы, если можете.
Мне гораздо интереснее смотреть, как два человека по намыленному столбу пытаются залезть на небеса. И когда они лезут, я сижу, как зритель, и откуда-то мысли приходят — я многое понимаю. Я сам туда не полезу. Зачем туда лазить, если эти два придурка… И два придурка — мир, смотря как посмотреть. Дело не в предмете, дело во взгляде. Актеру сейчас нужен новый взгляд на жизнь.
Актеры неправильно смотрят. Была там, скажем, пустыня, люди привыкли жить в пустыне. Ну как-то приспособились. Жили. И вдруг все это заполнила вода. Изменениям необратимым — сопротивление бессмысленно. Ну это грубые примеры. Как в Африке. Приходит засуха. И если ты не знаешь, где находятся незасохшие источники, ты обречен. Если не доживешь до сезона дождей, ты умрешь. А как нужно искать воду? Все время идти. Двигаться. Может быть, наткнешься. А если останавливаешься, у тебя даже нет шанса спастись. При движении — может быть! Ну так же бывает, вода в двух метрах! И хорошо, что меня мало кто понимает, потому что я должен закрыть свои источники. Потому что — а мне откуда?
У Клима «Театр — последнее прибежище человека».
Мы играем это как манифест. Это и есть манифест.
Актер — это человек, способный одухотворить любой текст. Это очень важный момент.
Так сказать, чтобы пространство — а не публика — отозвалось на каждое слово. Это заговор пространства. Я заряжаю, завожу пространство, которое уже берет за горло публику. Оно, заряженное, подкрадывается к зрителю сзади и… Позвоночник высыпается в трусы.
2002г.