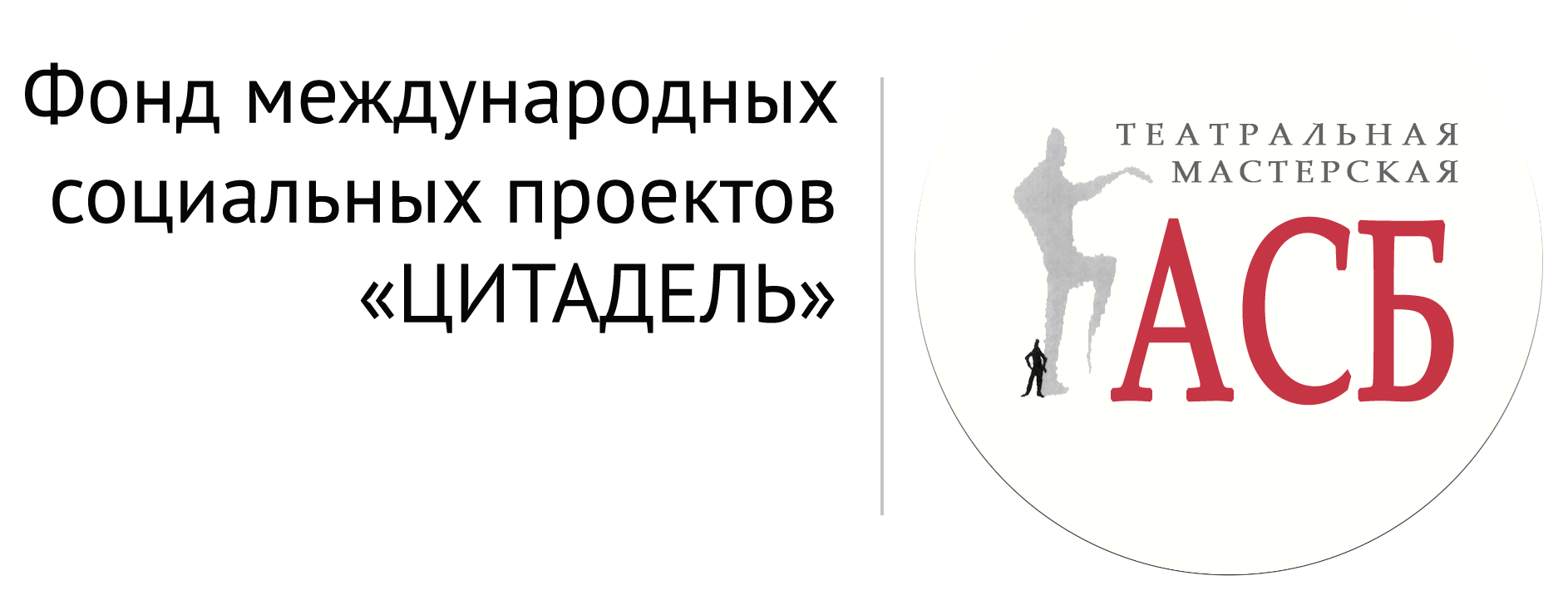Репертуар

Спектакль "Машина едет к морю"

«Одинокий голос сверхчеловека»
Евгений Авраменко, блог ПТЖ
Евгений Авраменко, блог ПТЖ
На крошечную сцену «Особняка» сомнамбулически выходит босая женщина с распущенными волосами, в длинной кофте, из-под которой виднеется свободное красное платье. Вперив бесцветный невидящий взгляд куда-то перед собой, женщина без возраста начинает долгий монолог. Если ты не читал этой повести середины 1950-х, то сперва не можешь определиться в историко-географических координатах, проза Пера Лагерквиста отфильтрована от лексики, которая бы в этом помогла. «Родители мои были известны своим богопочитанием», «мы жили в глубине долины, не в городе», «семья у нас была крестьянская»… Это можно отнести и к раннему Средневековью, и к позднему Возрождению, и к XIX веку. Информация, источником которой в спектаклях Алексея Янковского обычно становится звучащее слово, собирается постепенно, точно элементы пазла, которые далеко не сразу, но все же соединятся в воображении зрителя и заставят иначе взглянуть на все, что происходило ранее. Вспомним другие его спектакли на этой же сцене: «Машина едет к морю» и «Нежный возраст». Первый начинался с долгого алогичного разговора двух персонажей, пол, возраст и природу которых было трудно схватить на слух, и только потом становилось понятно, что это слепой старик и его аутичный внук. И постепенно, «слово за словом», в зрительском сознании складывалась жутковатая картина: ведь это два пленника своей вонючей (дед не моется неделями) квартиры, живущие ожиданием соседа, который ежедневно приходит кормить их тушеной капустой. В «Нежном возрасте» молодая женщина в своем путаном, иррациональном монологе неожиданно представала Настасьей Филипповной. В «Сивилле» накапливающийся объем сказанных слов дает эффект озарения: визуальная тусклость и холодноватость спектакля позволяют предположить, что место действия — родина автора, если и не Швеция, то, в любом случае, широты северные; однако до тебя вдруг доходит, что речь об Элладе. Женщина вспоминает, как она служила пифией в храме Аполлона в Дельфах.
Сивилла для нас сегодня принадлежность не столько истории, сколько мифа — примерно того же порядка, что «сирена» или «сатир» (хотя институт оракула существовал, служившие при храмах пифии были столь же реальны, как весталки), однако образ, созданный Янковским и актрисой Кристиной Скварек, в спектакле обретает плоть, сознание, психологию человека. В повести бывшая пифия, вспоминая свою жизнь, переносит читателя в конкретные пространства с их красками и запахами. И в спектакле ты, благодаря звучащему слову, оказываешься то в светлом храме Аполлона, куда девушку привели жрецы вначале, то в подземелье, где ей предстояло быть устами бога. И где он открывался ей в иной ипостаси: не через солнечный свет, а через мрак и смрадные пары, идущие из расщелины (считалось, что это спуск в аид), над которой стоял треножник пифии.
Визуально же спектакль минималистичный: около двух часов актриса стоит, уставившись в пустоту и раскинув руки, еле заметными движениями пальцев нащупывая что-то в мрачном воздухе.
Лагерквист сталкивает две эры, языческую и христианскую. Повесть «смонтирована» из двух больших монологов: за христианство «отвечает» мужчина, некогда не позволивший передохнуть у своего дома человеку с крестом, которого вели на Голгофу (узнается, конечно, Агасфер); за язычество — древняя старуха, бывшая пифия, изгнанная из города и живущая в горной хижине со своим пожилым слабоумным сыном. Агасферу, не находящему себе покоя после встречи с тем человеком, посоветовали найти ее в горах, ибо не было пифии сильнее, чем она. Выслушав гостя, старуха делится своим опытом сообщения с божеством. Штука в том, что в своих устных и на поверхность простодушных воспоминаниях сивилла кажется читателю философом XX века, прошедшим путь от непосредственного ощущения божества через кризис веры к ее новому обретению. То, о чем говорит героиня, находит отклик в христианском сознании. (Спустя десятилетия идею Лагерквиста подхватит Уильям Голдинг в своем последнем и незавершенном романе «Двойной язык», но после «Сивиллы» многое в нем кажется вторичным.)
Героиня спектакля рассказывает и о том, как, полюбив молодого соседа, она лишилась девства, вкусила счастье любви, за что бог в храмовом подземелье якобы мстительно овладел ею — через жертвенного козла. А возлюбленного нашли утонувшим в «злопамятной» реке, у которой он с пифией предавался любви, причем в руке утопший сжимал, вот странно, лавр — священное дерево Аполлона, которое поблизости не росло. Беременную пифию горожане изгнали с позором, и в изгнании она мысленно обращалась к тому дню, когда произошло зачатие, ужасаясь тому, что по подсчетам оно не могло случиться в период встреч с возлюбленным, а приходится на тот злосчастный день в подземелье. Рождение мальчика в пещере, куда сивиллу привели дикие козы, и их неотступное следование за новорожденным словно доказывают родство ребенка с богом, овладевшим его матерью. В повести сивилла предстает этакой языческой Богоматерью: на это работают как «монтаж» двух биографий (главное в которых — сообщение с божественным), так и лексика (повторяемое «сын бога» в отношении и Христа, и сына пифии) с образным рядом (описание того, как отверженная миром сивилла рожает в пещере, не может не вызвать в памяти Рождество).
Театр отказался от Агасфера, оставив только речь сивиллы, и правильно, потому что монолог Вечного Жида, видевшего Христа, со сцены был бы «в лоб»; но христианский код отчасти сохранен в спектакле. В финале Скварек говорит о пропавшем сыне (у Лагерквиста старуха, закончив свой долгий рассказ Агасферу, обнаруживает, что он исчез), и в ее странной путаной речи чувствуются такие масштаб, обреченность и жертвенность, что внесценический сын обретает мессианские черты. Будто это богу зачем-то нужно забрать его от матери.
Вселенским масштабом вопросов, поднимаемых на крошечной сцене, объясняется непривычное для драмы использование музыки. Когда зрители еще только рассаживаются, звучит переложенный на фортепиано Бах, а где Бах, там и «Бох», но пока космическая стихия приручена, замаскирована уютным комнатным музицированием. Сивиллина речь начинается в тишине, но скоро, когда героиня вспоминает источник, к которому они с матерью ходили каждый день, и стоило лишь заглянуть в воду, чтобы понять, что он божественный, зазвучит музыка. До самого финала она будет почти непрерывно аккомпанировать речи. Иногда раздражая: когда слова приходятся на краткие периоды затишья, ты ловишь себя на том, что эмоционально музыка навязывает тебе нечто отличное от состояния героини. Плейлист неожиданный: 9-я, последняя, симфония Антонина Дворжака, саундтрек Збигнева Прайснера к одной из частей «Декалога» Кшиштофа Кесьлевского, саундтрек Александра Деспла к «Призраку» Романа Поланского… Где эллинская архаика и методичное скупое письмо Лагерквиста, а где западнославянский романтизм?
Музыка звучит порой нарочито громко, экзальтированно и вроде бы противоречит камерности пространства, но акцентирует масштабность действия, помогает актрисе «держать вертикаль», достичь того состояния приподнятости над землей, которое возможно в опере. И правда, иногда речь сивиллы кажется речитативом. Торжественность фанфар предвосхищает прорыв в иное измерение. Статуарная мизансцена напоминает об академизме в живописи, о Belle Époque, когда древние мифы трактовались с салонной изысканностью, но внутреннее состояние актрисы в такой мизансцене ощущается порой как шероховато-варварское.
Историю сивиллы, как ее сочинил Лагерквист, можно было эмоционально расцветить и, пойдя на поводу у крохотного пространства, превратить в исповедальную доверительную беседу, вызывающую сочувствие; но Скварек читает нарочито однообразно, ровным гулким голосом. Проза Лагерквиста произносится как свободный стих и кажется «климописью» (текст разбит на строки, как у Клима). Актеры в спектаклях Янковского, случается, вызывают сильное эмоциональное впечатление, не прибегая к психологизации и полутонам. Знаете, бывают аппликации, когда берутся, скажем, лоскуты, сами по себе однородные, локального цвета, но талантливые руки создают композицию, которая по нежности и светоносности кажется чуть не акварельным рисунком. В «Сивилле», забегу вперед, тоже так.
Ставит ли Янковский «Машина едет к морю» или «Стеклянный зверинец», он задумывается о человеческой коммуникации. Существование героев-аутсайдеров — отвергнутых большим миром, но чутких к знакам инобытия, — во многом определяется поиском контактности. Это касается отношений как с партнером, так и со зрителем. Колоссальный духовный прорыв, совершенный на одном месте, «не выходя из комнаты», свойствен сценическому действию у Янковского. В «Сивилле» он позволяет пройти с героиней, словно вросшей в землю, ее незаурядный путь. Чтобы ближе к финалу, обретя зрение, она наткнулась взглядом на нас, спросив себя: «С какой стати я рассказываю это все чужим людям?» (взамен «тебе, чужому человеку», как обращается сивилла к Агасферу в оригинале). А еще Янковскому важно заставить зрителя сопротивляться: медленному течению времени, тягучему действию, плотному словесному ряду. Режиссер будто убежден, что прорыву в чудесное должно предшествовать физическое неудобство, дискомфорт. Вот и здесь: добрую часть действия спектакль кажется монотонным, иногда медитативность усыпляет, иногда же тебе физически передается напряжение актрисы, долго стоящей с распростертыми руками. Но очевиден колоссальный диапазон внутренней жизни, душевных движений, поддержанный изменениями, мало заметными глазу. Актриса делает шаг и встает под свисающей с потолка лампочкой, а через какое-то время отходит в сторону, и ее слабо высвечивает боковой прожектор, а при этом — она словно переходит от одного этапа своей жизни к другому, настолько в наших глазах меняется ее возраст.
Неиспорченная крестьянская девушка становится женщиной, внутри которой ощущается такая чувственная сила, что, кажется, сможет прорвать плотину; потом героиня стареет, ее природа становится грубее, актриса грузнеет на наших глазах. Иногда Скварек, застывшая с растопыренными пальцами, вперившая взгляд во тьму, кажется чуть не пародией на панночку в советской экранизации «Вия». Янковский, как и Клим (взять хотя бы его «Тамбовскую казначейшу»), побуждает актрис балансировать на грани между женственностью, утрированной почти до кича, и подлинным женским магнетизмом. Так и здесь: в какой-то момент видишь актрису совсем другими глазами…
В финале, когда героиня обнаруживает исчезновение слабоумного сына, она сама предстает как будто тронувшейся рассудком: косноязычно, словно преодолевая заторможенность, цепляясь руками за воздух, пытается она сказать нам что-то о боге — что он есть и бессмысленность, и смысл, который человек никогда не перестанет искать. Нарастающее волнение разряжается… в песне. Скварек начинает петь на испанском, нечто совсем «из другой оперы». В затемнении она исчезает, и живой голос сменяет фонограмма — поет латиноамериканская певица Мерседес Соса. А потом вновь возникает Скварек: в белом платье с прозрачной накидкой, со светлой диадемой. Теперь занавес, на фоне которого стояла сивилла, отодвинут, и вся кирпичная «коробочка сцены» оголена. Актриса идет вглубь, к столику, берет бокал, пьет вино. Там, в этом открывшемся пространстве, светит уже не тусклая лампочка, а абажур, который кажется круглой луной; к стене приставлено высокое зеркало, отражающее этот призрачный свет и раздвигающее тесную площадку «Особняка». И хотя зрительский взгляд упирается теперь в кирпичную кладку, все это представляется выходом в магическое измерение. Да, Янковский отказался от чуда, венчающего повесть (когда Агасфер и старуха выходят из хижины искать пропавшего сына, они натыкаются на его следы, ведущие в гору, становящиеся все более невесомыми и, наконец, теряющиеся совсем, будто он вознесся), но все же финал спектакля воспринимается как волшебство.
Финал выглядит безмолвным послесловием к рассказу сивиллы о том, как ей пришлось бежать домой к умирающей матери сразу после пророчеств, еще не придя в себя и не успев сменить ритуальное платье боговой невесты. Мать едва ли узнала дочь и смотрела на нее, как на диковинное существо, как на ряженую. Прощание выписано пронзительно: женщина, которая была когда-то настоящей невестой, познала супружество и материнство, и посредница между людьми и богом, обделенная земными радостями. Театр мог трактовать сивиллу как жертву религиозного фанатизма и жреческого прагматизма. Но нам позволено увидеть все иными глазами.
Я не знаю, что делает Скварек за то краткое время, когда в затемнении скрывается и надевает новый наряд, но она выходит преображенная, светоносная, без следов страдания на лице, которое теперь скорее прекрасный лик. Белоликая царевна в венце (мои глаза распознают дешевый материал убора, но кажется он шедевром древности, найденным при раскопках). Богова невеста. Она кротко улыбается, смотря в пол, и приседает, расправляя расшитую блестками накидку. В этой позе, картинной и «картонной», есть нечто от утонченных портретов Елизаветинской эпохи. Прозрачная накидка кажется небосводом с поблескивающими звездами.
Этот стилистический «спотык», возникающий при добавлении в ткань спектакля латиноамериканской песни, которая вдруг превращает нордическую по духу сивиллу чуть не в диву какого-то экзотического кабаре, достигает дивного эффекта. Мы на миг видим сивиллу, освещенную лунным светом, уже не как обделенную судьбой, несчастную, пострадавшую от своей искренней веры. Нет, эта служительница своего бога, должно быть, была счастлива, когда сообщалась с ним…
А я чувствую себя смертным, дерзко подглядевшим за священнодействием.