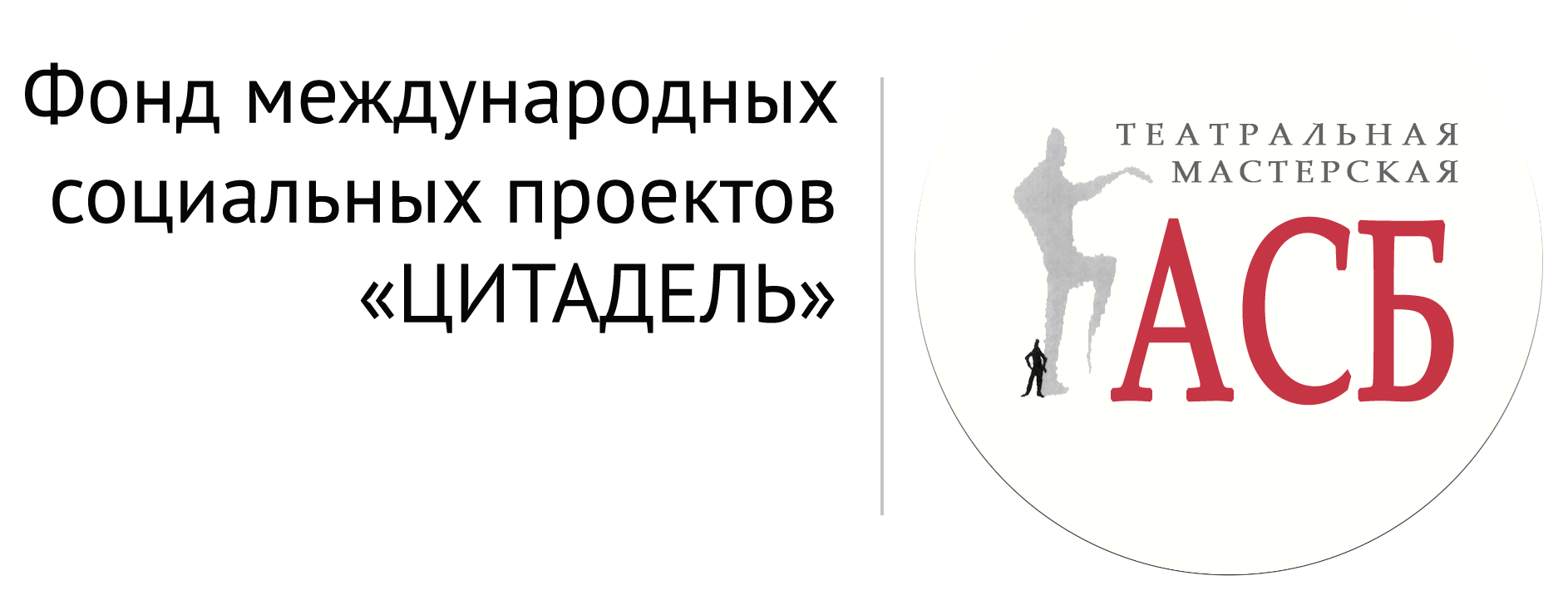«Танец Пьера»
«Сын». Ф. Зеллер. Челябинский Камерный театр.
Режиссер Алексей Янковский, художник Евгений Зорин.
«Сын». Ф. Зеллер. Челябинский Камерный театр.
Режиссер Алексей Янковский, художник Евгений Зорин.
…Всегда играет одинаково актриса Лия Ахеджакова, а ставит режиссер Алексей Янковский. Валентин Гафт, автор первой половины прозвучавшего утверждения, всегда уточнял, что Ахеджакова играет неизменно хорошо. А спектакли Алексея Янковского, добавлю уже от себя, неизменно интересны. Поставлены ли они в Петербурге, Хельсинки или в Камерном театре Челябинска, где с успехом шли и идут его работы по Климу, Чехову, Венедикту Ерофееву, а теперь вот и по финальной части трилогии модного французского драматурга Флориана Зеллера «Папа» — «Мама» — «Сын».
Режиссерская манера Алексея Янковского, и правда, всегда узнаваема и неизменна. Она абсолютно и принципиально небытовая. В жизни так не говорят: в таком сомнамбулическом ритме, с такими зависающими паузами, интонационными и смысловыми акцентами. Так не общаются: больше поверх партнера, чем по направлению к нему. Все это похоже на ритуал, обряд (шаманский?), диалог с высшими сферами, а не с соседями по столу. В такие спектакли надо войти, как в реку (и актерам, и зрителям), или выйти вон.
Но интересная вещь происходит с этим «Сыном». Янковский как режиссер и здесь вполне верен себе, но зритель (а я слышал множество отзывов) совершенно не хочет погружаться в метафизику. После спектакля все горячо говорят об одном и том же. Об отцах и детях, особенно о детях. Своих. Про опасный возраст, некоммуникабельность, потерю диалога, родительский страх за роковые ошибки и поступки подростков. Дипломированные и доморощенные психологи дают советы, отцы, а особенно матери, заинтересованно внимают, увиденный спектакль — лишь повод и фон для разговора о жизни.
«Сын» Флориана Зеллера — пьеса о движении к смерти и самоубийстве подростка по имени Николя, чей отец Пьер ушел из семьи к другой женщине, молодой и красивой, родившей ему другого сына. У отца новая жизнь и успешно развивающаяся карьера, у сына — брошенная школа, пугающие шрамы на руках, нож под матрасом, тотальное нежелание вписываться в рутину жизни, очевидные психологические проблемы.
Пьесы зеллеровской трилогии — не мелодрамы. При всех внешних приметах таковых. Они, скорее, сродни античным трагедиям о роке, об ошибках отцов, за которые расплачиваются дети, об ожидании неизбежного и отчаянии без надежды. Все мягче, обернуто в комфортные ритуалы современной европейской цивилизации, но все-таки о том же. И трагический финал неизбежен.
Пьер ведет бесконечные диалоги с Николя (отец говорит много, сын отвечает односложно, если вообще отвечает) о том, что развод родителей — дело житейское, кто сейчас не разводится? Но житейская логика (и потому это совсем не мелодрама) разбивается о молчание, в котором тайна прошлых семейных драм (куда более трагических, чем развод) и ожидание беды.
В жизни есть нечто неизбежное, понять и принять это невозможно, но можно смириться и как-то жить, а можно не смириться и не жить. Первое получается у Пьера. Именно отец, которого играет Петр Артемьев, становится вопреки названию пьесы главным героем спектакля. В нем есть мощь и отчаяние, неизжитая боль собственного детства, чувство вины перед сыном и яростный гнев в связи с его проступками, постоянное ожидание трагедии и заговаривание ее. Артемьев играет человека респектабельного, солидного, элегантного и в домашнем кэжуале, и в костюме на выход, хозяина своей жизни и своего дома, представителя высшего среднего класса (не столько западного, природа и сама фактура актера очень русские, сколько отечественного), отца. Все сдержанно, вся тревога на самом дне интонаций. Поэтому каждый резкий жест и звук очень впечатляют. А прямой эмоциональный взрыв впечатляет особенно. Таковых в спектакле два.
Первый случается, когда явно еще ничего не предвещает трагедии, но напряжение разлито в воздухе и надо снять его любым способом. Пьер снимает его танцем, вводя, кажется, не только себя, но и зрительный зал в состояние почти экстатическое. Актер, мощный не только в плечах, но и в талии, пляшет так, что вызывает в памяти Далиду(!), прости господи. Еще одно заклинание будущей беды, такое же бесполезное, как и все остальные.
Второй эмоциональный взрыв будет в приемной больницы, куда сына привезут после первой, неудачной, попытки самоубийства. После второй, получившейся, попытки взрыва не случится, будет пепельное и тихое отчаяние человека, жизнь которого кончена, но надо жить хотя бы ради другого сына.
В спектакле четыре главных героя: Пьер, Николя, бывшая жена Анна и новая София. И если у Петра Артемьева — Пьера нет дублера (как нет у него дублера в другой замечательной роли в спектакле Янковского, говорю о Веничке из постановки «Москва — Петушки»), то во всех остальных ролях есть два состава, и смена исполнителей сильно влияет на общее звучание спектакля. Угрюмый Николя Александра Сметанина — очень отечественный трудный подросток, пожалуй, из какого-то иного, чем в пьесе, социального слоя и просто среды, с окраины российского провинциального города (актер совсем недавно интересно сыграл Передонова в «Мелком бесе», что поставил в Камерном Тимур Кулов, и, кажется, наградил своего французского подростка чем-то от этого героя). Николя Никиты Савиных — тонкий, гибкий, кудрявый, книжный, уязвленно нервный, отчаянно одинокий. Красавица Марина Вознесенская в одном составе играет Софию, в другом — Анну. Ее молодая жена бесконечно любит мужа, но не меньше — саму себя (ее сцены с долгим раздеванием, а потом одеванием перед зеркалом, любованием своим прекрасным телом полны безмолвного вопроса: разве я не достойна любви и комфорта без далеких от меня проблемам? Собственно об этом же все ее безупречно корректные по интонации диалоги с Николя). Татьяна Кучурина придает своей Софии больше сердечности, тонкости, ломкости, настоящего сострадания Николя. Анну и Марина Вознесенская, и Елена Евлаш играют остро и, пожалуй, безжалостно.
Пространство спектакля, как это водится в постановках Янковского, лишено быта и семейного уюта, разве что обеденный стол на авансцене напоминает о нем. А так — черный зев сцены с флуоресцентными вертикальными лампами, зеркалами и экраном, на котором возникают и бесконечно повторяются кадры то с Микки Маусом, то с Чарли Чаплином. Зачем они здесь, бог весть. Некий визуальный дизайн, быть может, призванный смикшировать боль рассказываемой истории. Как и повтор танца Пьера на поклоне. Но это уже танец актера, а не героя. «Это же театр, Тетка!» — так, помнится, говорил клоун Каштанке-Тетке в знаменитом спектакле Вячеслава Кокорина. Это же театр… Но зрители «Сына» после спектакля говорят только о жизни.