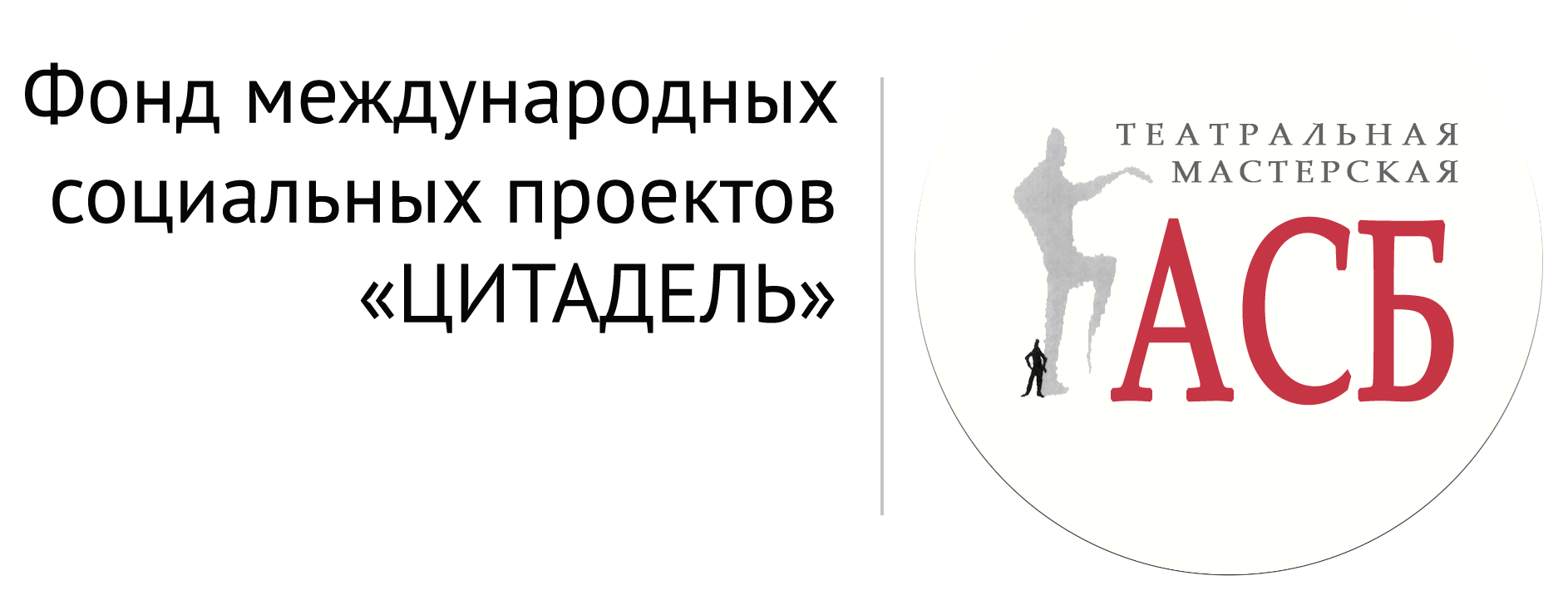Репертуар

Спектакль "Злой спектакль"

«ЗЛОЙ СПЕКТАКЛЬ…» или «…лучше бы было этому человеку не рождаться…».
Театральная мастерская «АСБ» на сцене театра «Особняк».
Автор текста — Клим, режиссер — Алексей Янковский
Треугольник взаимоотношений режиссера, актера и текста чаще всего выстраивается не в пользу текста. Обрубленный и выхолощенный, текст лежит на обочине более или менее удачного режиссерского замысла. Поразительная «невстреча» слова и его сценического воплощения становится театральной аксиомой. Режиссеры сетуют на нехватку полнокровных пьес, актеры — на пустоту и бесхарактерность персонажей, драматурги — на закостенелость и неповоротливость первых двух категорий. И так до бесконечности. Потому вдвойне приятно, если долгожданная встреча «своего» автора со «своим» режиссером и «своим» актером все же происходит. «Злой спектакль» Алексея Янковского по тексту Клима именно такой случай.
Моноработа Татьяны Бондаревой, определенная в программке как «„НЕЧТО", не имеющее „НИЧЕГО" общего с романом, НО ТО, О ЧЕМ, возможно, мог бы рассказать один из героев», превращается во «что-то» посюстороннее, напоминающее скорее продолжительный диалог исполнителя с автором. Испещренный цитатами из библии, аллюзиями к «Идиоту» Достоевского, «Превращению» Кафки и «Бегу» Булгакова спектакль условно разделяется на две метафорические части: «я как сущее — существо» и «я как Иуда». Цепь ситуативных переходов из одного состояния в другое формально выражается на уровне слов и в способе их ритмического сочленения: от молебного пропевания до синкопированного дробления фразы. Подобно тому, как в тексте Клима графически выделяются отдельные «несущие» фразы, так в спектакле повышением или понижением тона, паузами расчленяются грамматические конструкции. Главным становится не верно спаянное предложение, а его смысловое наполнение, не слово, а поток ассоциаций, возникающий в процессе произнесения. Не случайно, что автора, а вслед за ним и режиссера, так забавляет игра с метафорическим рядом, условное «плетение словес». От образа странного «чешуйчатого существа», поджидающего каждого в темном углу комнаты к убегающему из коробка таракану, и от него к Иуде, предателю и мученику одновременно.
Густота словесного ряда целиком ложится на плечи актрисы, которая при внешнем аскетизме формы (практически весь спектакль она находится в одной точке пространства — у кирпичной стены) и скупости выразительных средств (сжимание и разжимание пальцев, как бы приоткрывающих себя миру) наполняет образ невероятной внутренней энергией. Пульсация жизни срастается в ней с пульсацией слов. Аскетичный образ женщины, одетой во все черное и высветленной лучом света преодолевает пространственно-временные, гендерные границы: она становится архетипичным, единым существом, несущим на своих плечах общий грех — предательство Учителя.
Отступничество ради жизни и смерть во спасение.
Судьба Иуды по логике движения спектакля становится общей для всех. Финальный жест символического очищения (снятие пояса и расстегивание рубахи) приближает грешного, но свободного героя к истине, избавляет от страха смерти. А духовная музыка, сопровождающая последний монолог, придает действию видимость некоего «таинства», обряда причастия и посвящения. С той только разницей, что за нагромождением смыслов и фраз теряется легкость и божественность исполнения. Первозданность творящего слова превращается в длящиеся, филигранно отточенные «слова, слова, слова»…
Театральная мастерская «АСБ» на сцене театра «Особняк».
Автор текста — Клим, режиссер — Алексей Янковский
Треугольник взаимоотношений режиссера, актера и текста чаще всего выстраивается не в пользу текста. Обрубленный и выхолощенный, текст лежит на обочине более или менее удачного режиссерского замысла. Поразительная «невстреча» слова и его сценического воплощения становится театральной аксиомой. Режиссеры сетуют на нехватку полнокровных пьес, актеры — на пустоту и бесхарактерность персонажей, драматурги — на закостенелость и неповоротливость первых двух категорий. И так до бесконечности. Потому вдвойне приятно, если долгожданная встреча «своего» автора со «своим» режиссером и «своим» актером все же происходит. «Злой спектакль» Алексея Янковского по тексту Клима именно такой случай.
Моноработа Татьяны Бондаревой, определенная в программке как «„НЕЧТО", не имеющее „НИЧЕГО" общего с романом, НО ТО, О ЧЕМ, возможно, мог бы рассказать один из героев», превращается во «что-то» посюстороннее, напоминающее скорее продолжительный диалог исполнителя с автором. Испещренный цитатами из библии, аллюзиями к «Идиоту» Достоевского, «Превращению» Кафки и «Бегу» Булгакова спектакль условно разделяется на две метафорические части: «я как сущее — существо» и «я как Иуда». Цепь ситуативных переходов из одного состояния в другое формально выражается на уровне слов и в способе их ритмического сочленения: от молебного пропевания до синкопированного дробления фразы. Подобно тому, как в тексте Клима графически выделяются отдельные «несущие» фразы, так в спектакле повышением или понижением тона, паузами расчленяются грамматические конструкции. Главным становится не верно спаянное предложение, а его смысловое наполнение, не слово, а поток ассоциаций, возникающий в процессе произнесения. Не случайно, что автора, а вслед за ним и режиссера, так забавляет игра с метафорическим рядом, условное «плетение словес». От образа странного «чешуйчатого существа», поджидающего каждого в темном углу комнаты к убегающему из коробка таракану, и от него к Иуде, предателю и мученику одновременно.
Густота словесного ряда целиком ложится на плечи актрисы, которая при внешнем аскетизме формы (практически весь спектакль она находится в одной точке пространства — у кирпичной стены) и скупости выразительных средств (сжимание и разжимание пальцев, как бы приоткрывающих себя миру) наполняет образ невероятной внутренней энергией. Пульсация жизни срастается в ней с пульсацией слов. Аскетичный образ женщины, одетой во все черное и высветленной лучом света преодолевает пространственно-временные, гендерные границы: она становится архетипичным, единым существом, несущим на своих плечах общий грех — предательство Учителя.
Отступничество ради жизни и смерть во спасение.
Судьба Иуды по логике движения спектакля становится общей для всех. Финальный жест символического очищения (снятие пояса и расстегивание рубахи) приближает грешного, но свободного героя к истине, избавляет от страха смерти. А духовная музыка, сопровождающая последний монолог, придает действию видимость некоего «таинства», обряда причастия и посвящения. С той только разницей, что за нагромождением смыслов и фраз теряется легкость и божественность исполнения. Первозданность творящего слова превращается в длящиеся, филигранно отточенные «слова, слова, слова»…