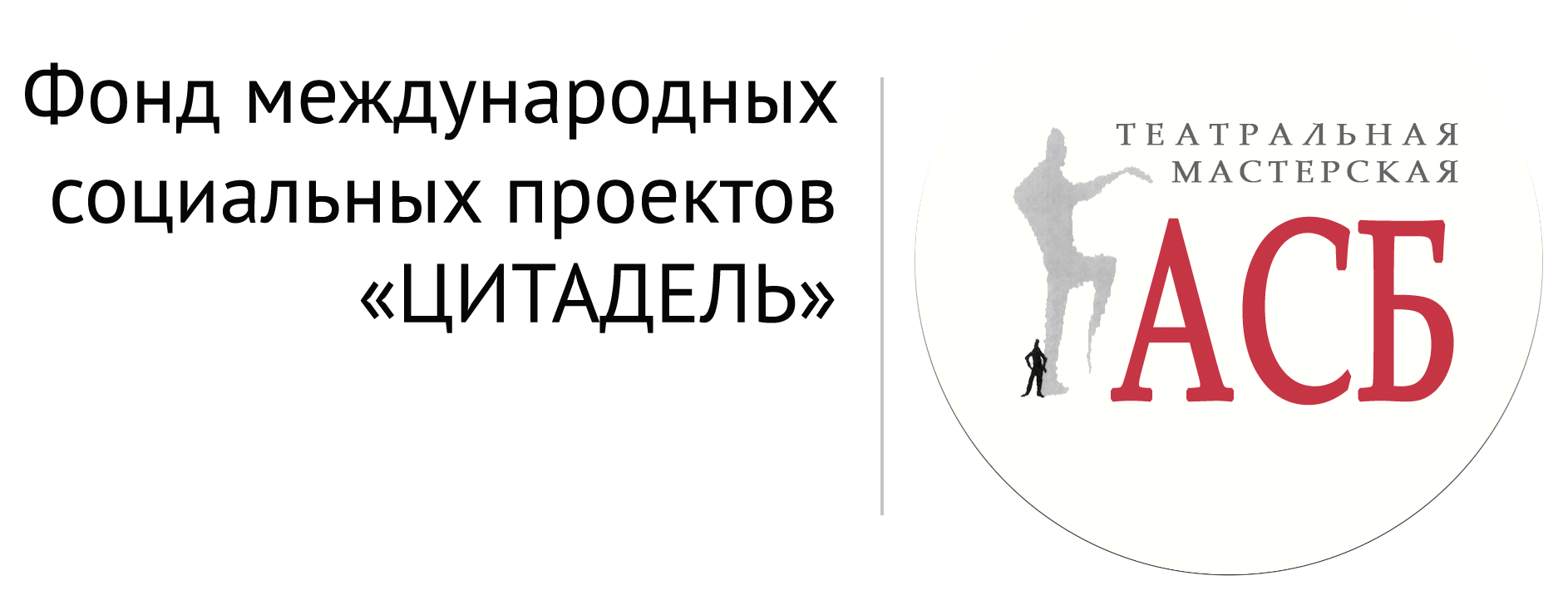НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ
или странная история моей любви
Спектакль-путешествие в сторону опасной свободы, где актер и зритель остаются наедине друг с другом и с самими собой – такими, какими они себя еще не знали или боялись узнать.
«Ты рыдаешь, тебя колотит, а тебе через минуту — на сцену. Но ты должен совладать с нервами и без сучка, без задоринки всё отработать. И не дай бог ты бы допустил ошибку!» Н. Цискаридзе.
Cпектакль по пьесе новатора и уникального современного драматурга KLIMa. Это история Настасьи Филипповны, героини романа Ф.М. Достоевского «Идиот», от ее собственного лица.
Этот спектакль — на первый взгляд это вариация на тему женской судьбы по мотивам романа «Идиот» Достоевского. Но на самом деле он — о таинстве театра и актерства, преобразующих правду жизни по законам правды вымысла.
Кто хорошо знает роман, тот довольно быстро начинает улавливать, что перед нами странное и необычное воплощение Настасьи Филипповны. Или, вернее, ее внутренний монолог о себе самой, о своей судьбе. Но знание романа, впрочем, тут совершенно не обязательно. Это не отсыл к нему, не вариации на темы романа. Это именно монолог женщины, точнее, ее диалог с самой собой. Когда человек сам себе задает вопросы. Как бы отстраняется от себя. Отделяется и словно со стороны изучает свою суть и глубины своей природы и психики.
Герои Достоевского в моноспектаклях Алексея Янковского по пьесам драматурга KLIMa не просто литературные персонажи. Они являют собой собирательный образ, сотканный из элементов мировой истории, культуры, из переосмысления судеб реальных людей и актуальных событий современности. И, конечно, из персонажей Достоевского.
Театр, театральность бытия, артистичность, актерство поведения — здесь это и способ выражения себя, и техника выстраивания своего поведения, и особое лекарство как метод самоизлечения души.
Режиссер — Алексей Янковский. Театральный режиссёр, педагог. Создатель и художественный руководитель Театральной мастерской «АСБ». Лауреат фестивалей «Новая драма» и «Монокль» в номинации «За лучшую режиссуру».
Актриса — Наталья Свешникова. Актриса театра и кино. Мастер спорта России по художественной гимнастике. Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, Международного фестиваля камерных спектаклей «LUDI».
Драматург – KLIM. Режиссер, драматург, лауреат премий ЮНЕСКО и «Золотая маска». Автор более 30 пьес и работ о театре. Спектакли по его пьесам поставлены во многих городах России и за рубежом.
Продолжительность спектакля - 2 часа без антракта
Премьера состоялась 25 апреля 2017 года.
Возрастное ограничение: 16+.
Спектакль – лауреат XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, г. Старая Русса, 2020г.
Cпектакль по пьесе новатора и уникального современного драматурга KLIMa. Это история Настасьи Филипповны, героини романа Ф.М. Достоевского «Идиот», от ее собственного лица.
Этот спектакль — на первый взгляд это вариация на тему женской судьбы по мотивам романа «Идиот» Достоевского. Но на самом деле он — о таинстве театра и актерства, преобразующих правду жизни по законам правды вымысла.
Кто хорошо знает роман, тот довольно быстро начинает улавливать, что перед нами странное и необычное воплощение Настасьи Филипповны. Или, вернее, ее внутренний монолог о себе самой, о своей судьбе. Но знание романа, впрочем, тут совершенно не обязательно. Это не отсыл к нему, не вариации на темы романа. Это именно монолог женщины, точнее, ее диалог с самой собой. Когда человек сам себе задает вопросы. Как бы отстраняется от себя. Отделяется и словно со стороны изучает свою суть и глубины своей природы и психики.
Герои Достоевского в моноспектаклях Алексея Янковского по пьесам драматурга KLIMa не просто литературные персонажи. Они являют собой собирательный образ, сотканный из элементов мировой истории, культуры, из переосмысления судеб реальных людей и актуальных событий современности. И, конечно, из персонажей Достоевского.
Театр, театральность бытия, артистичность, актерство поведения — здесь это и способ выражения себя, и техника выстраивания своего поведения, и особое лекарство как метод самоизлечения души.
Режиссер — Алексей Янковский. Театральный режиссёр, педагог. Создатель и художественный руководитель Театральной мастерской «АСБ». Лауреат фестивалей «Новая драма» и «Монокль» в номинации «За лучшую режиссуру».
Актриса — Наталья Свешникова. Актриса театра и кино. Мастер спорта России по художественной гимнастике. Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, Международного фестиваля камерных спектаклей «LUDI».
Драматург – KLIM. Режиссер, драматург, лауреат премий ЮНЕСКО и «Золотая маска». Автор более 30 пьес и работ о театре. Спектакли по его пьесам поставлены во многих городах России и за рубежом.
Продолжительность спектакля - 2 часа без антракта
Премьера состоялась 25 апреля 2017 года.
Возрастное ограничение: 16+.
Спектакль – лауреат XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, г. Старая Русса, 2020г.
Создатели
Драматург, лауреат премии ЮНЕСКО и фестиваля «Золотая маска»
Режиссер, лауреат премий «Золотой софит», «Новая драма»
Наталья Свешникова
Актриса
Отзывы
Нечасто случается, что из невероятно талантливых людей складывается замечательный ансамбль. Сегодня мне повезло стать свидетелем этого редкого феномена.
Ни на кого не похожий драматург Клим написал в 2001-м году пьесу-монолог «ОНА-Я-НЕ Я и ОНА» - откровенный непроизнесенный монолог Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот».
Художественный руководитель Театральной мастерской «АСБ» режиссер Алексей Янковский поставил по этой пьесе поразительный моноспектакль «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ или странная история моей любви».
Молодая актриса Наталья Свешникова прекрасно справилась с непростой задачей и на протяжении полутора часов, – а именно столько длится постановка, – она безраздельно владела вниманием зрителей.
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_27
Ни на кого не похожий драматург Клим написал в 2001-м году пьесу-монолог «ОНА-Я-НЕ Я и ОНА» - откровенный непроизнесенный монолог Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот».
Художественный руководитель Театральной мастерской «АСБ» режиссер Алексей Янковский поставил по этой пьесе поразительный моноспектакль «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ или странная история моей любви».
Молодая актриса Наталья Свешникова прекрасно справилась с непростой задачей и на протяжении полутора часов, – а именно столько длится постановка, – она безраздельно владела вниманием зрителей.
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_27
Если говорить о спектакле, то финальное видение общего, возникающее буквально на последних минутах, можно определить в одном предложении: разговор души, прощающейся с телом. Только мы с начала это, конечно, не понимаем. Когда она говорит о том, что все вокруг в цветах (и дальше о том, что ее мать любила цветы), мы не понимаем еще, что это цветы, расставленные в комнате вокруг тела. Вернее вокруг гроба, в котором лежит тело, с которым как бы прощается эта душа, никак не решающаяся отлететь, уйти, расстаться (с этим телом, миром, жизнью). Душа, страшащаяся того, что должно наступить и никак не желающая уходить, цепляющаяся за возможность побыть еще немного – за нас, тех кому ей ну просто необходимо вот все это вот рассказать (что именно – не важно, важно чтобы еще) .
Финальный образ – падающее к ногам актрисы роскошное белое бальное платье, так и остающееся лежать перед нами в круге света, в то время как сама она отступает в темноту и растворяется в ней. При этом кто такая эта «сама она» (наконец-то сбросившая с себя тот образ, в котором всю дорогу пребывала): душа распростившаяся с телом, актриса сыгравшая роль, героиня романа, покинувшая пределы текста – так до конца и остается непонятным. И, собственно говоря, в этой неясности, размытости границ между всеми этими воображаемыми героинями во многом и заключено содержание.
Вопрос, который постоянно возникает, и постоянно снимается: кто перед нами? (кто перед нами в финале и в то же время в каждый отдельный момент действия, кто произносит те слова, которые мы слышим). Сначала – совсем не понятно, но в то же время, очевидно, что это некий вполне традиционный персонаж. Некто. Женщина, начинающая рассказывать о себе, своем детстве, матери. Говорящая сбивчиво, перескакивающая с одного на другое, чем-то взволнованная, но не желающая говорить о том, чем.
Затем вдруг в речи этого персонажа начинают проскальзывать обращения в зрительный зал с пояснениями, что говорит в этот момент именно она, актриса, играющая сейчас перед нами некую роль. Именно ей принадлежат какие-то размышления о сути актерской игры, о театре. Причем в то же самое время становится понятно, что эта актриса (которая говорит) и та актриса (которая в этот момент находится перед нами) – не один и тот же человек. Что опыт той (говорящей, не молодой, сыгравшей многие роли, прожившей жизнь) и опыт этой (совсем юной, только в жизнь входящей) не равен. Хотя на самом деле может так быть, что эта юная (играющая ту, опытную) на самом деле и есть та, только в юности, в воспоминании, в возвращении в себя, какой-я-себя-продолжаю-видеть.
И то же самое с героинями. Когда вдруг выясняется, что героиня пьесы это Настасья Филипповна – героиня романа Достоевского, но при этом одновременно и некая другая, отличная о той, «настоящая» (не прообраз, не прототип, а именно настоящая, та, которую тот автор – автор романа - так до конца не смог ни понять, ни изобразить), и эта другая начинает вдруг с той (которая и существует то лишь в нашем восприятии, нашем воспоминании о романе) – начинает вдруг спорить, всё не то чтобы как-то вообще окончательно запутывается, скорее наоборот – начинает восприниматься в неком нерасторжимом единстве. Кто именно говорит об этом? Кто кому возражает? Кто именно и что вспоминает. Чей именно сон пересказывает нам (и кто именно)? В спектакле (так же как, вероятно, и в пьесе) наступает некий момент, когда это "я" говорящего уже принципиально неопределимо. Когда звучащий голос звучит изниоткуда, и я это все они (так же как и все мы). Собственно этот момент (в том случае, если он достигается в конкретном представлении) и есть главное.
Здесь, наверное, для того, чтобы было понятно откуда все это вообще взялось, надо сказать, что сама эта пьеса была в свое время написана Климом, если можно так выразиться, по заказу. Т.е. сначала Клим написал на Лыкова «Я, она, не я и я» - пьесу, в которой он впервые опробовал этот метод буквального совмещения разнообразных я: я- персонаж книги, по которой написана пьеса , я – персонаж этой пьесы, я – актер, играющий этого персонажа, я собственно – Лыков (т.е. в буквальном смысле конкретный человек, предстающей сейчас в роли актера, играющего актера-персонажа пьесы, играющего персонажа, являющегося одновременно и персонажем романа). В этом блуждании от я к я и заключался собственно «путь» (путь к себе – о котором как бы и говорилось в романе-пьесе-спектакле). Только для Клима, путь этот представлялся неким (как это было и в его собственной режиссуре) – лабиринтом, который должен пройти актер (и провести по нему зрителя, как сталкер). Янковский же (как я уже однажды говорил об этом) натянул над этим лабиринтом канат и пустил по нему актера: дойдет не дойдет.
Парадокс здесь в том, что сам этот канат это и есть на самом деле – текст. И именно по тексту (но в то же самое время и над ним) и должен пройти актер. Не на шаг не отклоняясь ни влево, ни вправо.
Так вот, возвращаясь к спектаклю (или, вернее, пока к пьесе): пьеса, которая изначально была написана на Таню Кузнецову (как женский вариант «Я, она»), имела по сравнению со своим «прототипом» одно важное отличие. "Главный текст" – основа – внутри нее удваивался еще раз. Т.е. текст романа Достоевского оказывался соотнесен с библейским текстом, к которому («в результате», «как оказалось») все и восходит. Причем этот библейский текст так же удваивался, распадаясь на ветхо-заветный и ново-. ( в ветхозаветном тексте, Настасья Филлиповна оказывалась как бы напрямую соотнесенной с Агарью, у которой с Авраамом разница в годах, примерна такая же как у нее с Тоцким). И это соотнесение с текстом "более глубокого уровня" разом как бы размыкало саму иерархическую структуру текста пьесы-источника. Потому что библейский текст представлялся здесь в качестве некоего архетипа, с которым на равных соотносятся любые герои - и героиня Достоевского и актриса ее играющая, и собственно актриса, играющая эту актрису.
Когда в 2014 году Янковский выпустил поставленную по этой пьесе «Идущую за предел» (с Леной Спириной), именно эта центральная часть, связанная с библейским пластом в том спектакле вдруг оказалась опущенной (т.е. буквально - выброшенной из спектакля). Отчего он (спектакль, сам по себе довольно симпатичный) терял некую очень существенную часть своего как бы так и недопроявившегося смысла. Тут мне, конечно, не очень хочется влезать в отношения между актерами и режиссером, но единственное, что мне известно точно, это то, что для Янковского эта незавершенность ощущалась именно как незавершенность, настаивающая на продолжении работы. Поэтому, когда Спирина отказалась играть текст Клима целиком, он, в свою очередь, сказал, что он «в любом случае спектакль доделает». Что , собственно он и сделал в 2017 году, поставив со Свешниковой «Нежный возраст» - как бы тот же самый спектакль, но с другой актрисой и с полным объемом текста. (И здесь, как мне кажется, именно этот полный объем и придает – на самом деле – всему этому проекту некую финальную завершенность).
Что, на самом деле, означает этот проход по канату? Т.е. вот именно само это основное в спектакле «неразличение» - движение над, через, сквозь – вне соединения с кем-то из говорящих, вне всех этих перебивающих друг друга я, на мгновение проявляющихся и тут же исчезающих?
У Кортасара есть рассказ под названием «Все огни – огонь». В детстве , я помню (прочел я его классе в 8-м) произведший на меня невероятное впечатление даже не столько своим содержанием, сколько самим этим - задающим особую перспективу взгляда на мир – названием. Уже намного позже я понял, что сама эта метафора была Кортасаром не выдумана, что она в своей основе восходит к стоикам (и дальше к Гераклиту, мистериям, практике жертвенных очищений, трем огням прото-индоевропейской ведической традиции, о которой писал Надь) и что речь вообще идет по всей видимости не о метафоре, а о реальном видении, всматривании в собственную первооснову (Платон в Протагоре говорит о том, что душа это и есть тот огонь, который украл Прометей. И после смерти этот огонь очищается, соединяясь с другими огнями). Собственно это финальное соединение в общем мировом огне, утрата собственных границ, выход за пределы своего я – это и есть то состояние, о котором говорят все мистики всех без исключения «религиозных направлений».
Каждый отдельный человек лишь костер. Но смысл костра не в том, что именно в нем сгорает, а в самом огне
Когда Клим говорит о том, что театр для него «это место, в котором я несколько раз осознавал, что меня – нет. […] Т. е. я есть, но во всем.». Когда он говорит о собственном понимании васильевского разделения на персону и персонажа: «Персона… [есть] нечто помещенное в меня Богом. Оно одинаково во всех […] Крег называл это Божественной марионеткой. […] Я называю – Пуруша» . И дальше практически без перехода, что «театр существует по одной простой причине — мы все одинаковые». Это – об этом. Вопрос лишь в том, как именно это видение театра и человека реализуется.
Метод, применяемый Янковским к драматургии Клима, я называю методом простых арифметических действий. Которых, как известно два: сложение и вычитание. Причем всегда применяются оба (но только одно неким явным способом, внешним, второе же – внутренним, неявным, но без него, первое было бы недействительным).
Что я имею в виду? как обычно – ничего сложного. Вот, если мы посмотрим на наш спектакль: внешне он сделан как раз методом сложения. Обо всех его многочисленных героинях мы можем сказать «и она тоже». Т.е. я это и Настасья Филипповна, и актриса ее играющая, и актриса, играющая эту актрису. Все они складываются, образуя некую единую над-человеческую сущность. Некое я, которое в какой-то момент включает и нас, сидящих в зрительном зале. Но в то же время внутренне это сложение становится возможным лишь потому, что на самом деле актриса произносящая текст ни с кем не суммируется. Не складывается.
Я актрисы всегда на самом деле отделено от любого я (в том числе и ее собственного) и именно эта дистанция – незалипание, несоединение дают возможность неразличения. Отождествления практически буквального. Т.е. перехода на уровень на котором вопрос «кто говорит» оказывается вообще нерелевантным происходящему.
То же самое и наоборот.
В качестве обратного примера можно привести Злой спектакль Тани Бондаревой (по пьесе Клима так же входящей в цикл по Идиоту) или одну из последних лешиных работ - «Дао» с Галой Самойловой (спектакль, шедший некоторое время на малой сцене александринки и на самом деле представляющий лишь первую часть пьесы Клима «Дао де дзин»
Здесь внешнее – т.е. отрицание – так же вполне буквально. Пьеса начинается с того, что автор пьесы, т.е. сам Клим, как-то вечером, спасаясь от дождя заходит в книжный магазин и натыкается на полке на текст трактата Лао Дзы, вернее начинается она чуть раньше с некоторых довольно абстрактных размышлений о театре некоторого довольно абстрактного же актера, затем возникает автор пьесы, автор трактата, герой трактата, настоящий герой трактата и все они на самом буквальном и примитивном уровне – не она. Т.е. когда Гала говорит за Клима «я» (я подумал, мне стало ясно) она просто говорит за него, она – не он. То же самое с актером (не превращающемся в актрису), с правителем, с мудрецом. Все они как бы один за другим вычитаются, оставляя на месте говорящего абсолютное ничто. Ноль. Пустоту. Но именно в момент этого вычитание и возникает сложение. Т.е. я Галлы, я зрителей, я героев текста, я автора пьесы, автора трактата и еще бог знает кого, вдруг необъяснимым образом объединяются в некоторое общее я, к которому все это имеет самое непосредственное отношение
«Управлять большим царством, - говорит Гала, цитируя автора Дао де дзина, - все равно что варить мелкую рыбу». И тут же добавляет, уже от лица автора пьесы, читающего сегодня эти слова:
это «варить мелкую рыбу»…
Собственно, что нам всем до того как управлять большим царством?
Но есть ведь и обратная, теневая сторона…
Или вопрос: «кто ты?».
«Где ты?».
И «если ты живешь в большом царстве, то ведь это тебя будут варить как мелкую рыбу»?
Эта неожиданная смена оптики, в которой кажущиеся абстрактными размышления древнекитайского мудреца относительно управления древнекитайским княжеством вдруг превращаются во вполне конкретные, обращенные непосредственно к сидящему в зале зрителю прозрения, конечно, заложена в пьесе, но именно в спектакле она реализуется. И реализуется именно через это последовательное вычитание, оборачивающееся сложением.
Впрочем, в данном случае, возможно, говоря о спектаклях Янковского по текстам Клима, говорить вообще нужно не об арифметике, а о богословии. О двух типах познания Бога - катафатическом (утверждающем), заключающемся в последовательном утверждении (Бог есть любовь, свет, истина и т.п.) - и апофатическом (отрицающем) – заключающийся в столь же последовательном отрицании всех возможных определений Бога, как априорно несоразмерных ему.
Как сказала мне когда-то Вера Богородская (проработавшая с Климом в подвале все годы вплоть до его закрытия):
«У Клима ведь, чтоб он ни делал, все время получалось одно и то же: вот - человек, вот - чисто поле, а вот здесь – Господь Бог. А все остальное, только повод, чтобы к нему выйти».
По большому счету, про Янковского, мне кажется, можно сказать то же самое. Разве что выглядит у него все это не столь вызывающе, и спрятано чуть поглубже. Да на первом плане обычно пьеса, причем поставленная «как оно есть». Ну, просто, чтобы, если вдруг что, так "вопросы к автору. Я то здесь причем?".
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_46
Финальный образ – падающее к ногам актрисы роскошное белое бальное платье, так и остающееся лежать перед нами в круге света, в то время как сама она отступает в темноту и растворяется в ней. При этом кто такая эта «сама она» (наконец-то сбросившая с себя тот образ, в котором всю дорогу пребывала): душа распростившаяся с телом, актриса сыгравшая роль, героиня романа, покинувшая пределы текста – так до конца и остается непонятным. И, собственно говоря, в этой неясности, размытости границ между всеми этими воображаемыми героинями во многом и заключено содержание.
Вопрос, который постоянно возникает, и постоянно снимается: кто перед нами? (кто перед нами в финале и в то же время в каждый отдельный момент действия, кто произносит те слова, которые мы слышим). Сначала – совсем не понятно, но в то же время, очевидно, что это некий вполне традиционный персонаж. Некто. Женщина, начинающая рассказывать о себе, своем детстве, матери. Говорящая сбивчиво, перескакивающая с одного на другое, чем-то взволнованная, но не желающая говорить о том, чем.
Затем вдруг в речи этого персонажа начинают проскальзывать обращения в зрительный зал с пояснениями, что говорит в этот момент именно она, актриса, играющая сейчас перед нами некую роль. Именно ей принадлежат какие-то размышления о сути актерской игры, о театре. Причем в то же самое время становится понятно, что эта актриса (которая говорит) и та актриса (которая в этот момент находится перед нами) – не один и тот же человек. Что опыт той (говорящей, не молодой, сыгравшей многие роли, прожившей жизнь) и опыт этой (совсем юной, только в жизнь входящей) не равен. Хотя на самом деле может так быть, что эта юная (играющая ту, опытную) на самом деле и есть та, только в юности, в воспоминании, в возвращении в себя, какой-я-себя-продолжаю-видеть.
И то же самое с героинями. Когда вдруг выясняется, что героиня пьесы это Настасья Филипповна – героиня романа Достоевского, но при этом одновременно и некая другая, отличная о той, «настоящая» (не прообраз, не прототип, а именно настоящая, та, которую тот автор – автор романа - так до конца не смог ни понять, ни изобразить), и эта другая начинает вдруг с той (которая и существует то лишь в нашем восприятии, нашем воспоминании о романе) – начинает вдруг спорить, всё не то чтобы как-то вообще окончательно запутывается, скорее наоборот – начинает восприниматься в неком нерасторжимом единстве. Кто именно говорит об этом? Кто кому возражает? Кто именно и что вспоминает. Чей именно сон пересказывает нам (и кто именно)? В спектакле (так же как, вероятно, и в пьесе) наступает некий момент, когда это "я" говорящего уже принципиально неопределимо. Когда звучащий голос звучит изниоткуда, и я это все они (так же как и все мы). Собственно этот момент (в том случае, если он достигается в конкретном представлении) и есть главное.
Здесь, наверное, для того, чтобы было понятно откуда все это вообще взялось, надо сказать, что сама эта пьеса была в свое время написана Климом, если можно так выразиться, по заказу. Т.е. сначала Клим написал на Лыкова «Я, она, не я и я» - пьесу, в которой он впервые опробовал этот метод буквального совмещения разнообразных я: я- персонаж книги, по которой написана пьеса , я – персонаж этой пьесы, я – актер, играющий этого персонажа, я собственно – Лыков (т.е. в буквальном смысле конкретный человек, предстающей сейчас в роли актера, играющего актера-персонажа пьесы, играющего персонажа, являющегося одновременно и персонажем романа). В этом блуждании от я к я и заключался собственно «путь» (путь к себе – о котором как бы и говорилось в романе-пьесе-спектакле). Только для Клима, путь этот представлялся неким (как это было и в его собственной режиссуре) – лабиринтом, который должен пройти актер (и провести по нему зрителя, как сталкер). Янковский же (как я уже однажды говорил об этом) натянул над этим лабиринтом канат и пустил по нему актера: дойдет не дойдет.
Парадокс здесь в том, что сам этот канат это и есть на самом деле – текст. И именно по тексту (но в то же самое время и над ним) и должен пройти актер. Не на шаг не отклоняясь ни влево, ни вправо.
Так вот, возвращаясь к спектаклю (или, вернее, пока к пьесе): пьеса, которая изначально была написана на Таню Кузнецову (как женский вариант «Я, она»), имела по сравнению со своим «прототипом» одно важное отличие. "Главный текст" – основа – внутри нее удваивался еще раз. Т.е. текст романа Достоевского оказывался соотнесен с библейским текстом, к которому («в результате», «как оказалось») все и восходит. Причем этот библейский текст так же удваивался, распадаясь на ветхо-заветный и ново-. ( в ветхозаветном тексте, Настасья Филлиповна оказывалась как бы напрямую соотнесенной с Агарью, у которой с Авраамом разница в годах, примерна такая же как у нее с Тоцким). И это соотнесение с текстом "более глубокого уровня" разом как бы размыкало саму иерархическую структуру текста пьесы-источника. Потому что библейский текст представлялся здесь в качестве некоего архетипа, с которым на равных соотносятся любые герои - и героиня Достоевского и актриса ее играющая, и собственно актриса, играющая эту актрису.
Когда в 2014 году Янковский выпустил поставленную по этой пьесе «Идущую за предел» (с Леной Спириной), именно эта центральная часть, связанная с библейским пластом в том спектакле вдруг оказалась опущенной (т.е. буквально - выброшенной из спектакля). Отчего он (спектакль, сам по себе довольно симпатичный) терял некую очень существенную часть своего как бы так и недопроявившегося смысла. Тут мне, конечно, не очень хочется влезать в отношения между актерами и режиссером, но единственное, что мне известно точно, это то, что для Янковского эта незавершенность ощущалась именно как незавершенность, настаивающая на продолжении работы. Поэтому, когда Спирина отказалась играть текст Клима целиком, он, в свою очередь, сказал, что он «в любом случае спектакль доделает». Что , собственно он и сделал в 2017 году, поставив со Свешниковой «Нежный возраст» - как бы тот же самый спектакль, но с другой актрисой и с полным объемом текста. (И здесь, как мне кажется, именно этот полный объем и придает – на самом деле – всему этому проекту некую финальную завершенность).
Что, на самом деле, означает этот проход по канату? Т.е. вот именно само это основное в спектакле «неразличение» - движение над, через, сквозь – вне соединения с кем-то из говорящих, вне всех этих перебивающих друг друга я, на мгновение проявляющихся и тут же исчезающих?
У Кортасара есть рассказ под названием «Все огни – огонь». В детстве , я помню (прочел я его классе в 8-м) произведший на меня невероятное впечатление даже не столько своим содержанием, сколько самим этим - задающим особую перспективу взгляда на мир – названием. Уже намного позже я понял, что сама эта метафора была Кортасаром не выдумана, что она в своей основе восходит к стоикам (и дальше к Гераклиту, мистериям, практике жертвенных очищений, трем огням прото-индоевропейской ведической традиции, о которой писал Надь) и что речь вообще идет по всей видимости не о метафоре, а о реальном видении, всматривании в собственную первооснову (Платон в Протагоре говорит о том, что душа это и есть тот огонь, который украл Прометей. И после смерти этот огонь очищается, соединяясь с другими огнями). Собственно это финальное соединение в общем мировом огне, утрата собственных границ, выход за пределы своего я – это и есть то состояние, о котором говорят все мистики всех без исключения «религиозных направлений».
Каждый отдельный человек лишь костер. Но смысл костра не в том, что именно в нем сгорает, а в самом огне
Когда Клим говорит о том, что театр для него «это место, в котором я несколько раз осознавал, что меня – нет. […] Т. е. я есть, но во всем.». Когда он говорит о собственном понимании васильевского разделения на персону и персонажа: «Персона… [есть] нечто помещенное в меня Богом. Оно одинаково во всех […] Крег называл это Божественной марионеткой. […] Я называю – Пуруша» . И дальше практически без перехода, что «театр существует по одной простой причине — мы все одинаковые». Это – об этом. Вопрос лишь в том, как именно это видение театра и человека реализуется.
Метод, применяемый Янковским к драматургии Клима, я называю методом простых арифметических действий. Которых, как известно два: сложение и вычитание. Причем всегда применяются оба (но только одно неким явным способом, внешним, второе же – внутренним, неявным, но без него, первое было бы недействительным).
Что я имею в виду? как обычно – ничего сложного. Вот, если мы посмотрим на наш спектакль: внешне он сделан как раз методом сложения. Обо всех его многочисленных героинях мы можем сказать «и она тоже». Т.е. я это и Настасья Филипповна, и актриса ее играющая, и актриса, играющая эту актрису. Все они складываются, образуя некую единую над-человеческую сущность. Некое я, которое в какой-то момент включает и нас, сидящих в зрительном зале. Но в то же время внутренне это сложение становится возможным лишь потому, что на самом деле актриса произносящая текст ни с кем не суммируется. Не складывается.
Я актрисы всегда на самом деле отделено от любого я (в том числе и ее собственного) и именно эта дистанция – незалипание, несоединение дают возможность неразличения. Отождествления практически буквального. Т.е. перехода на уровень на котором вопрос «кто говорит» оказывается вообще нерелевантным происходящему.
То же самое и наоборот.
В качестве обратного примера можно привести Злой спектакль Тани Бондаревой (по пьесе Клима так же входящей в цикл по Идиоту) или одну из последних лешиных работ - «Дао» с Галой Самойловой (спектакль, шедший некоторое время на малой сцене александринки и на самом деле представляющий лишь первую часть пьесы Клима «Дао де дзин»
Здесь внешнее – т.е. отрицание – так же вполне буквально. Пьеса начинается с того, что автор пьесы, т.е. сам Клим, как-то вечером, спасаясь от дождя заходит в книжный магазин и натыкается на полке на текст трактата Лао Дзы, вернее начинается она чуть раньше с некоторых довольно абстрактных размышлений о театре некоторого довольно абстрактного же актера, затем возникает автор пьесы, автор трактата, герой трактата, настоящий герой трактата и все они на самом буквальном и примитивном уровне – не она. Т.е. когда Гала говорит за Клима «я» (я подумал, мне стало ясно) она просто говорит за него, она – не он. То же самое с актером (не превращающемся в актрису), с правителем, с мудрецом. Все они как бы один за другим вычитаются, оставляя на месте говорящего абсолютное ничто. Ноль. Пустоту. Но именно в момент этого вычитание и возникает сложение. Т.е. я Галлы, я зрителей, я героев текста, я автора пьесы, автора трактата и еще бог знает кого, вдруг необъяснимым образом объединяются в некоторое общее я, к которому все это имеет самое непосредственное отношение
«Управлять большим царством, - говорит Гала, цитируя автора Дао де дзина, - все равно что варить мелкую рыбу». И тут же добавляет, уже от лица автора пьесы, читающего сегодня эти слова:
это «варить мелкую рыбу»…
Собственно, что нам всем до того как управлять большим царством?
Но есть ведь и обратная, теневая сторона…
Или вопрос: «кто ты?».
«Где ты?».
И «если ты живешь в большом царстве, то ведь это тебя будут варить как мелкую рыбу»?
Эта неожиданная смена оптики, в которой кажущиеся абстрактными размышления древнекитайского мудреца относительно управления древнекитайским княжеством вдруг превращаются во вполне конкретные, обращенные непосредственно к сидящему в зале зрителю прозрения, конечно, заложена в пьесе, но именно в спектакле она реализуется. И реализуется именно через это последовательное вычитание, оборачивающееся сложением.
Впрочем, в данном случае, возможно, говоря о спектаклях Янковского по текстам Клима, говорить вообще нужно не об арифметике, а о богословии. О двух типах познания Бога - катафатическом (утверждающем), заключающемся в последовательном утверждении (Бог есть любовь, свет, истина и т.п.) - и апофатическом (отрицающем) – заключающийся в столь же последовательном отрицании всех возможных определений Бога, как априорно несоразмерных ему.
Как сказала мне когда-то Вера Богородская (проработавшая с Климом в подвале все годы вплоть до его закрытия):
«У Клима ведь, чтоб он ни делал, все время получалось одно и то же: вот - человек, вот - чисто поле, а вот здесь – Господь Бог. А все остальное, только повод, чтобы к нему выйти».
По большому счету, про Янковского, мне кажется, можно сказать то же самое. Разве что выглядит у него все это не столь вызывающе, и спрятано чуть поглубже. Да на первом плане обычно пьеса, причем поставленная «как оно есть». Ну, просто, чтобы, если вдруг что, так "вопросы к автору. Я то здесь причем?".
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_46
Бесподобно трудная актёрская работа актрисы Натальи Свешниковой. АСБ.
И снова Театральный музей, и снова текст Кlim.
"Нежный возраст или странная история моей любви"
Режиссёр - Алексей Янковский.
По философской "тяжести", по искусному психоанализу бессознательного - ставить тексты Клима очень, очень непросто...
Победа актрисы в точной, контрастной передаче смыслов автора. В щедрой актёрской россыпи красок, нюансов, моментальных переходов от роли (Настасьи Филипповны) к душевным переживаниям самой актрисы ( Натальи Свешниковой) на "зеркале" сцены. Актриса талантливо, ярко, эффектно "рисует" грозную волю, поступки своей героини.
Из несуществующих глав романа "Идиот".
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_57
И снова Театральный музей, и снова текст Кlim.
"Нежный возраст или странная история моей любви"
Режиссёр - Алексей Янковский.
По философской "тяжести", по искусному психоанализу бессознательного - ставить тексты Клима очень, очень непросто...
Победа актрисы в точной, контрастной передаче смыслов автора. В щедрой актёрской россыпи красок, нюансов, моментальных переходов от роли (Настасьи Филипповны) к душевным переживаниям самой актрисы ( Натальи Свешниковой) на "зеркале" сцены. Актриса талантливо, ярко, эффектно "рисует" грозную волю, поступки своей героини.
Из несуществующих глав романа "Идиот".
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_57
Бесконечно сложная актёрская работа Натальи Свешниковой.
И вновь смотрю спектакль Алексея Янковского "Нежная душа"!
Замечательно!
И всё, как-то по новому.
Избыток впечатлений от спектакля продолжили обсуждать в кафе на Невском...да, уж!
Тесты Klim'a это всегда специфическая образность на сцене. Выразительность актрисы, граничит, просто с храбростью женщины желающей сказать во весь голос очень страшные и честные "вещи".
И о личной судьбе, и о её связи с библейскими сюжетами Книги Бытия.
Стоящий спектакль теа-мастерской АСБ.
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_59
И вновь смотрю спектакль Алексея Янковского "Нежная душа"!
Замечательно!
И всё, как-то по новому.
Избыток впечатлений от спектакля продолжили обсуждать в кафе на Невском...да, уж!
Тесты Klim'a это всегда специфическая образность на сцене. Выразительность актрисы, граничит, просто с храбростью женщины желающей сказать во весь голос очень страшные и честные "вещи".
И о личной судьбе, и о её связи с библейскими сюжетами Книги Бытия.
Стоящий спектакль теа-мастерской АСБ.
https://vk.com/nezniyvozrast?w=wall-142712356_59
Наталья Свешникова — совсем молодая актриса, собственно, она только учится на эту профессию. Но талант артистки уже успели оценить и режиссеры, и зрители: на съемках фильма «А зори здесь тихие» петрозаводчанке выпало даже произнести несколько слов, хотя роль у нее была совсем крохотная. Но что-то есть в этой миниатюрной рыжеволосой девушке, что роднит ее с самыми яркими и сильными героинями русской классики: даже на вступительных экзаменах в театральный вуз она читала монолог Настасьи Филипповны. Моноспектакль «Нежный возраст или странная история любви» - продолжение этой тематики. И хоть текст написан не Достоевским, а Владимиром Клименко, постановка Алексея Янковского получилась не менее пронзительной и многогранной, чем личность знаменитой героини «Идиота». Чтобы оценить первую большую театральную работу многообещающей актрисы Натальи Свешниковой, нужно лишь вовремя купить билеты на спектакль «Нежный возраст или странная история любви».
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast.html
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast.html
Совпадение. Совпадение площадки и режиссера; площадки режиссера и спектакля; площадки, режиссера, спектакля и актера, так можно продолжать дальше. Важно: хочется придти туда снова!
Однозначно - смотреть, пища для души, ума, то что имеет послевкусие, Это не шокирующее зрелище, которое обрушивается на тебя ураганом, А проникновение в какие-то глубины, почти медитация. Среди потока того, что видишь и слышишь, что-то остается для тебя непонятым, что-то угаданным, что-то узнанным, все это и составляет чувство общения, в которое ты вступаешь и оно продолжает быть в тебе.
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html
Однозначно - смотреть, пища для души, ума, то что имеет послевкусие, Это не шокирующее зрелище, которое обрушивается на тебя ураганом, А проникновение в какие-то глубины, почти медитация. Среди потока того, что видишь и слышишь, что-то остается для тебя непонятым, что-то угаданным, что-то узнанным, все это и составляет чувство общения, в которое ты вступаешь и оно продолжает быть в тебе.
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html
Моноспектакли всегда эксклюзивны для артиста. Эксклюзивны для зрителя. Надо быть к этому готовыми. Тем более премьера. На мой взгляд, спектакль должен понравиться ценителям рассказов. Мне понравился. Спасибо.
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html
Задумка автора и театрального режиссёра интересная , но лично моё мнение,что актриса Наталья Свешникова не смогла донести всю глубину мыслей, чувств, бури эмоций которые творятся во внутреннем мире у ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ,ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ ,ЖЕНЩИНЫ - ЖЕНЫ .
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html
Необычный спектакль, скорее цикл рассказов в исполнении актрисы. Откровенный и пронзительный скорее ближе к драматическому сюжету, заставляет задуматься. Немного тяжеловат, но с некоторым интересом смотрится. Скорее для ценителей рассказов. Интересный моноспектакль.
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html
https://www.bileter.ru/afisha/show/Nezhnyi_vozrast_15209210.html